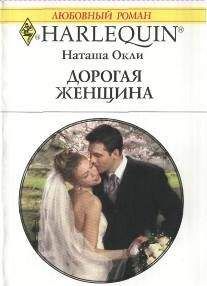Петр Вайль - Стихи про меня
С учетом же всех трех видов обстоятельств месга, времени и образа действия — в "Тоске по родине" доведена до крайнего предела традиционная для эмигрантской поэзии, прозы, публицистики тема: Россия в нас, Россию мы унесли с собой.
В письмах Цветаевой этот известный тезис варьируется постоянно: "Если есть тоска по родине — то только по безмерности мест...", "Не Россией одной жив человек... Россия во мне, не я в России...".
Елизавета Тараховская приводит ее слова в разговоре о ностальгии: "Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном". В 1925 году Цветаева отвечает на анкету журнала "Своими путями": "Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови". И дальше — уже конкретно о себе: "Лирикам же, эпикам и сказочникам, самой природой творчества своего дальнозорким, лучше видеть Россию издалека — всю — от Князя Игоря до Ленина, — чем кипящей в сомнительном и слепящем котле настоящего. Кроме того, писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать (дышать)".
Это общеэмигрантское самосознание у Цветаевой усугубляется крайним поэтическим индивидуализмом и бытовой эксцентрикой, что выделяло ее в любой среде, отчуждало. В ней было всё необычно: манера речи, неожиданные вспышки приязни-неприязни, домашняя обстановка (мемуаристы с изумлением пишут об огромном мусорном баке посреди жилой комнаты), обиходная несовременность (боялась автомашин, эскалаторов метро, не пользовалась лифтом, не любила и толком не умела обращаться с телефоном), внешность (регулярно брила голову, несмотря на протесты мужа).
Федор Степун, вспоминая Цветаеву доэмигрантских лет, пишет: "Настоящие природные поэты, которых становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и мало приятным законам". Эмиграция (и это ее основное свойство, уверенно скажу, опираясь на собственный многолетний опыт) лишь проявляет и усиливает все специфические черты, не привнося ничего принципиально нового. Цветаева всегда и всюду существовала сама по себе, одна, в своей собственной, персонально цветаевской стране.
Еще одно важное обстоятельство: за границей она способна была сохранять такую же, как в России, независимость и обособленность не только в силу характера, но и по блестящему знанию языков — что, вопреки распространенному представлению, вовсе не было правилом в русском зарубежье. Цветаева переводила на французский Пушкина и Лермонтова, вела на равных любовно-интеллектуальную переписку с выдающимся немецким поэтом Рильке, владея обоими языками почти как русским. Она принадлежала к числу тех немногих, кому действительно могла быть безразлична государственно-языковая принадлежность "глотателя газетных тонн".
А если и не вполне безразлична, то остро чувствительную к фонетике Цветаеву русский "глотатель" раздражал, конечно, сильнее. Тем более тот русский — советский. Нам трудно сейчас представить, как воспринимали зарубежные литераторы новое название страны: мы с ним и в нем выросли, а они ощущали как Каинову печать, гвоздь в гроб. Была "Россия" — обычное имя, как "Англия" или "Франция", — а стало неведомо что. В самом деле, аббревиатурой до тех пор называлась только Америка, но она и есть Новый Свет, нечто, возникшее на голом месте. Российское переименование оскорбляло слух. Еще в 20-м Цветаева горевала: "Так мое сердце над Рэ-сэ-фэ- сэром / Скрежещет...". Рэ-сэ-фэ-сэр ушел, пришло не лучше, даже хуже, потому что еще и без национальной, и без географической привязки, без места вовсе, не говоря о звучании: "России (звука) нет, есть буквы: СССР, — не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: буквы не раздвинутся".
После того как в июне 31-го Сергей Эфрон подал прошение о предоставлении ему советского гражданства, цветаевские слова о родине стали меняться. Заметно, как она все отчетливее осознает опасное приближение новой России к себе — точнее, к своей семье. Скрежещущие и свистящие буквы раздвигаются: для мужа и дочери, твердо настроенных на возвращение, для сына, которого тоже придется отпустить. При этом в "Стихах к сыну" (1932), рядом с призывом к мальчику уехать в СССР — понимание того, что для нее самой страна остается космически далекой: "Нас родина не позовет! / Езжай, мой сын, домой — вперед — / ...В на-Марс страну! В без-нас страну!"
В "Родине", написанной тоже в 32-м, — снова стандартное для эмигрантской волны ощущение России: подлинная отчизна не там, где она размещается на широтах и меридианах, а тут, унесенная с собой и бережно сохраняемая: "Даль, прирожденная, как боль, / Настолько родина и столь / Рок, что повсюду, через всю / Даль — всю ее с собой несу!" И еще определеннее в этом же году: "Той страны на карте — / Нет, в пространстве — нет... / Можно ли вернуться / В дом, который — срыт?"
Какое сгущение образов — "нет на карте", "срытый дом", "без-нас страна", "Марс". А летом 38-го, когда уже уехала в СССР дочь и туда же сбежал муж, уже вовсю готовясь к отъезду вслед за ними сама, — крик, прорвавшийся в скобках среди идиллического описания нормандского городка, где она "последний раз" отдыхает с Муром у моря: "(О Боже, Боже, Боже! что я делаю?!)". Позже, в Москве, Цветаева говорила Тараховской, что "как только вступила на сходни парохода, увозившего ее на родину, она почувствовала, что погибла".
В 38-м же еще из Франции — приятельнице в Брюссель: "А как хорошо было бы — если бы я жила в Бельгии, как когда-то жила в Чехии, мирной жизнью, которую я так обожаю... (А он, мятежный, ищет бури... — вот уж не про меня сказано, и еще: — Блажен, кто посетил сей мир — В его минуты роковые... — вот уж не блажен!!!)..."
Мирная жизнь в Чехии — этот образ преследовал Цветаеву как память о золотом веке. Семнадцать лет Цветаева прожила за границей. Три первых месяца в 22-м провела в Берлине, последние тринадцать с половиной лет — во Франции. На Чехию пришлось три года три месяца. Экскурсия по цветаевской Чехии займет день, завершившись ужином в Збраславе, южном пригороде Праги, в ресторане "Шкода ласки". Где еще есть питейно-пищевое заведение с названием "Жалко любви"? Начать надо с Карлова моста, где стоит рыцарь Брунсвик с золотым мечом, тот "Пражский рыцарь", которого Цветаева вспоминала годами, чью фотографию просила прислать в письмах своей чешской приятельнице Анне Тесковой.
Именно с этой точки моста при взгляде на Малу Страну открывается, может быть, самый захватывающий не только в Праге, но и во всей Европе городской вид: гармонично громоздящиеся башни, церкви, дома — десятиплановая ведута, составленная из готики, барокко, эклектики, модерна, под громадой Града с собором святого Витта. Экскурсоводы эту точку знают, тормозят группы, предлагают сняться. У Брунсвика — затор. Тут же играет диксиленд пузатых пенсионеров-хиппи. Тоненькая девушка в кругу слушателей рассказывает подруге, тыча рукой в сторону собора Св. Микулаша на Малостранской: "А мы вчера там на концерте были — так прикольно. Органный запил — чумовой. Ребятам орган не в кассу, а я тащусь. Баха играли — полный улёт". (Как предписано: "Не обольщусь и языком / Родным, его призывом млечным".)