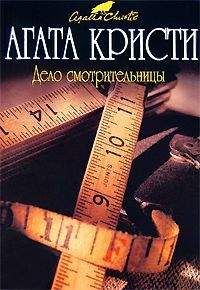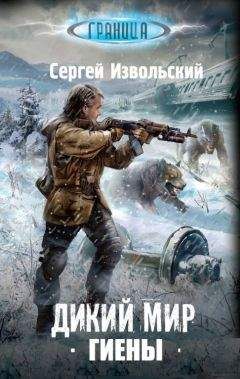Полина Осетинская - Прощай, грусть
От некоторых членов жюри поступили предложения поступить в их класс и приезжать на разные другие конкурсы. Но если до этого я еще сомневалась в правильности давно избранного мной бесконкурсного пути, то теперь твердо решила больше никогда не участвовать ни в каких соревнованиях и забегах. Мышеловка захлопывается, только когда лезешь за сыром.
Ведь изначально я была против и этого конкурса. На мой взгляд, сама конкурсная система глубоко порочна. Предвижу снисходительные усмешки: все неудачники пеняют на систему. Нет, не так! – как поется в опере Десятникова «Дети Розенталя». Комплексом неудачницы не страдаю – я рада, что так все случилось: понимаете, не пришлось учить за неделю современный концерт в застенках. Есть даже в этом некая справедливость.
Конкурсы дают возможность молодым музыкантам выступать в престижных залах, накапливать сценический опыт, закаливать нервную систему. Кроме конкурсов, им, не имеющим связей с крупными менеджерами, буквально негде себя проявить. Некоторым везет, и после пятнадцатого конкурса, а иногда быстрее, их берет под крыло какое-нибудь агентство.
Но когда в музыке начинается сравнение по спортивному принципу «кто быстрее добежал» – мероприятие утрачивает для меня художественный смысл. (Есть забавная история про одного московского пианиста, который не успевал записать на кассету этюды, требуемые на аудиоотбор одного западного конкурса, и послал один этюд в исполнении Рихтера, а другой – кажется, Горовица. Не прошел – сказали: техника слабовата.)
Органический порок любого конкурса – вкусовщина: «устои и традиции», которые каждый член жюри понимает по-своему. Начинаются споры до хрипоты, где согласие кажется таким же недостижимым, как для баса – си бемоль второй октавы. Известны случаи, когда несогласные выходили из состава жюри, хлопнув дверью (что парадоксально сказывалось на карьере отсеянных, из-за которых разражался скандал, наилучшим образом). Нет и не может быть абсолютной объективности в решениях и индивидуальных симпатиях-антипатиях – если, конечно, речь не идет о бесспорном гении, заставляющем умолкнуть всех критиканов (пусть бы даже потому, что они им подавились). Но гении, как известно, не родятся в таком количестве, чтобы украшать своим участием любое соревнование районного масштаба, да, впрочем, и самые крупные конкурсы.
Битва происходит, как правило, между более и менее одаренными и техничными. А яркие, смелые, выпадающие из общего ранжира музыканты усредненную картину портят – и головы их летят. Только за последнюю неделю, пока я писала эту главу, самые, на мой взгляд, яркие музыканты отсеялись с первого и третьего туров одного конкурса и не прошли отборочный тур на другом. Буквально сейчас то же самое произошло на главном русском конкурсе.
Увы, еще одна неотъемлемая часть почти любого музыкального соревнования – протекционизм. Подводные течения, бартер: здесь я даю премию твоему ученику, там ты даешь – моему.
Навалявший в пассаже, но оригинальный и тонкий музыкант мне милее качка, штурмующего клавиатуру бестрепетным отлакированным натиском.
Убеждена: в музыканте индивидуальность ценнее, чем толщина и крепость нервов, а также способность зашпарить финал Концерта Чайковского быстрее всех. Зачастую премия завоевывается именно таким способом – но больше об этих исполнителях мы не знаем ничего, они потом бесследно исчезают, сходят как пена.
Вот, например, в фигурном катании, обожаемом мной виде спорта, есть настоящий гений – канадец Джеффри Баттл. Он чувствует музыку и проживает ее на льду в каждом движении как никто, другие же только прыгают. С прыжками у него как раз беда – никакой стабильности в тройном акселе, не говоря уже об отсутствии тулупа в четыре оборота. Но спорт есть спорт – выигрывает тот, кто безошибочно откатал всю программу с четверными, ни разу не плюхнувшись на лед. Однако их имен я не помню – зато программы Джеффри Баттла или другого мастера – Стефана Ламбьеля, сохранены на жестком диске моей памяти.
По загадочному стечению обстоятельств финалистами Конкурса королевы Елизаветы оказались преимущественно ученики членов жюри. Но меня это уже не касалось. Вернувшись в Петербург и приняв положенную долю искреннего сочувствия и плохо скрываемого злорадства, я принялась жить дальше.
В октябре меня ждали гастроли в Японии. Мне удалось уговорить Бориса Самойловича, а ему – принимающую сторону, чтобы пригласили и «педагога М. В. Вольф», – и мы полетели вместе с Мариной.
Оказавшись на другой планете, в другой цивилизации, я внимательно изучала эту космическую жизнь при помощи сотрудницы агентства Левита, блестящей японистки Галины Анатольевны Рыбиной, переводчицы Оты-сан и нашего доброго менеджера Йосиды. Привыкала к невероятной вежливости и дружелюбию японцев. Восторженно разглядывала из окна суперэкспресса Фудзияму и дивные цветущие долины.
Долго боясь даже прикоснуться к сырой рыбе, я избегала суси, отдавая предпочтение корейскому барбекю. Однажды Галина с Йосидой отловили меня на входе в гостиницу и буквально силой затащили в типично японское местечко, где туристов отродясь не видели. Налив полную чашку горячего сакэ и наколов кусок сырого тунца на палочку, они, вперив в меня глаза, велели: ешь. Деваться некуда было. И это оказалась так вкусно, что я долго потом себя ругала – как можно было быть такой дурой? Японская кухня с тех пор – одна из любимых.
В Японии я впервые сыграла Первый концерт Чайковского. Сначала с оркестром Московской филармонии под управлением Игоря Юловчина, а затем с Tokyo Philharmonic и дирижером Гарсиа Наварро.
Меня подвело поклонение исторической записи Первого концерта с Мартой Аргерих: чистосердечно полагая, что всего лишь беру взаймы ее энергию, я, как распоследний эпигон, просто пыталась скопировать то, кто копированию не подлежит – ее манеру исполнения. У меня же вышло скомканное, загнанное и захлебывающееся нечто.
Оступившись так два раза в жизни (второй – прелюдии Шопена в исполнении Иво Погорелича), я больше принципиально не слушаю произведения, над которыми в данный момент работаю. Потому меня страшно веселят глубокомысленные высказывания русских критиков после концерта: «Чувствуется, что Полина очень внимательно и подробно изучала запись такой-то вещи Этим Пианистом, и она оказала на нее серьезное воздействие». А я даже не знала, что Этот Пианист это записывал, к своему, понимаете ли, стыду.
Естественно, ознакомиться с традицией и различными версиями необходимо, но теперь я делаю это либо сильно загодя – год, два, пять до того, как начать работу, либо когда я так прочно срослась с этим текстом, живя с ним, как с мужем, что вряд ли кто сможет мне сообщить о нем что-то новое. Знаю одного очень известного музыканта, который работает так: берутся все существующие записи, слушаются, сравниваются, и делается усредненная компиляция: оттуда нос, отсюда лоб, здесь клык торчит. Компьютер с этой компилятивной задачей справится гораздо точнее.