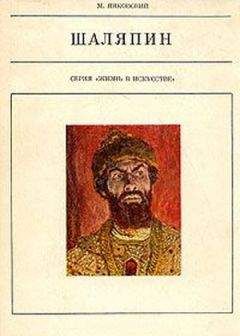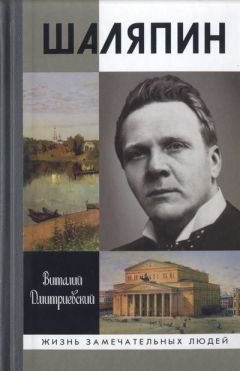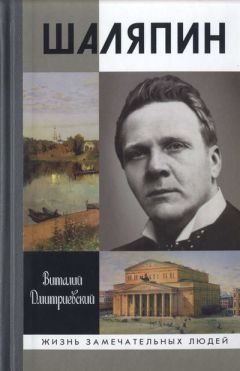«Милая моя, родная Россия!»: Федор Шаляпин и русская провинция - Коровин Константин Алексеевич
— Ну, а теперь надо закончить вечер оперой. — И вдруг, схватив графин с водой и держа его на плече, отец запел, идя вокруг стола: «Ходим мы к Арагве светлой каждый вечер за водой…»
За ним встал Москвин, а затем и все остальные. Процессия двинулась по всем комнатам и с пением вернулась в столовую.
Было уже поздно, но гости и не думали расходиться, не хотелось уходить и мне, но я тогда еще училась, и наутро меня ждала школа…
III
Шаляпин глазами современников
Тексты этого раздела печатаются по изданиям: Ф. И. Шаляпин: В 2 т. М.: Искусство. I960. Т. 2; Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Худож. лит., 1967. Т. 9; Розанов В. В. Среди художников. М.: Республика. 1994; Старк Э. А. (Зигфрид). Ф. И. Шаляпин: (К двадцатипятилетию артистической деятельности) //Аполлон. 1915. № 10.
Эдуард Старк (Зигфрид)
Ф. И. Шаляпин
(К двадцатипятилетию артистической деятельности)
Однажды в захолустном театре готовили «Гальку» Монюшки. На предпоследней репетиции произошло какое-то недоразумение с исполнителем хотя и небольшой, но ответственной партии Стольника. Опере грозила опасность быть снятой с репертуара. Тогда один из хористов, только что начавший сценическую карьеру, незаметный, робкий, застенчивый и выдававшийся только своим ростом, согласился выручить труппу из беды, приготовил партию безукоризненно уже к генеральной репетиции и выступил на спектакле, стяжав весьма значительный успех: ему, никогда не певшему иначе как в хоре, да и то в продолжение всего лишь трех месяцев, дружно аплодировали после арии Стольника в первом акте. Было это в Уфе 18 декабря 1890 года. Звали этого хориста — Федор Иванович Шаляпин.
Двадцать пять лет прошло с тех пор, как на скромной, почти убогой провинциальной сцене вспыхнул едва брезжущий огонек творчества, которому впоследствии суждено было разгореться ярким пламенем, проникшим теплом своим в душу людей всех званий и состояний и самых разнообразных национальностей, доказав этим лишний раз, что язык искусства, язык могущественного песнопения, соединенный с даром трагического творчества, среди всех других языков, при помощи которых могут общаться человеческие души, есть единственный действительно международный. Эти двадцать пять лет прошли, пролетели как сон. Двадцать пять лет — четверть века! — протекли в мире фантазии, лучшие годы жизни прожиты точно в опьянении могущественным творчеством, уносившим артиста на недосягаемые высоты, где стоит он весь точно в золоте, облитый лучами солнца, светлый, радостный и непостижимый в тайне своей.
Вся судьба Шаляпина, вся совершенная им карьера безмерно удивительны, возбуждают в нас трепет перед чудесами, которые способна творить природа. Кто мог бы, взглянув на Шаляпина, когда он мальчиком бегал по улицам Казани, где он родился и где отец его служил писцом в земской управе, сказать: «Ты будешь гений!»
Но, прежде чем творческое пламя разгорелось, судьба не раз пыталась погасить его вовсе. Жизнь Шаляпина, пока он не почувствовал под собою твердой почвы, была похожа на дурной сон. Рожденный в бедности, не получивший никакого образования, будущий чародей сцены провел безрадостное детство и столь же безрадостную юность. Он обучался ремеслу сначала сапожному, потом токарному, потому что в этом окружающие видели все его будущее. Служил писцом, потому что надо же было наконец к чему-нибудь себя пристроить. А между тем в душе всходили какие-то ростки, бродило совершенно неосознанное, неоформленное стремление к иной, грандиозной деятельности. Семнадцати лет Шаляпин начал в Уфе свою артистическую карьеру. Но это не значило, что он сразу стал на рельсы. Нет, после Уфы пошли годы беспорядочного скитания по разным захолустьям, и эти годы полны были всеми угрозами голодного, холодного, бесприютного существования. И кто знает, что могло бы случиться, если бы не Тифлис и не профессорствовавший в этом городе тенор Усатов, который первый почувствовал в Шаляпине большую силу и стал учить его пению. В этом-то городе, обожженном лучами южного солнца, впервые прикоснулся Шаляпин к святыне подлинного искусства. И тогда заговорили о молодом певце, исполнителе партий Мельника в «Русалке» и Мефистофеля в «Фаусте». Скоро Шаляпина уже слушал Петербург в летней опере сада «Аркадия». Это было в 1894 году. Зимою того же года, в Панаевском театре, он узнал настоящий успех. Весь Петербург переслушал его тогда в роли Бертрама в мейерберовской опере «Роберт-Дьявол», и многие и посейчас хранят воспоминание о необыкновенно бархатном голосе, впервые очаровавшем слух, демонической фигуре, в которой уже тогда, несмотря на робость и неопытность ранних сценических шагов, чувствовалась загадочная сила. Как он стоял, двигался, жестикулировал, смотрел, как «подавал» отдельные фразы, с какой экспрессией пел, — все это уже в ту пору резко отличало его от окружающих.
Затем наступил для Шаляпина первый период его пребывания на казенной сцене, в Мариинском театре (1895–1896), — период почетный, доставивший певцу в двадцать один год звание артиста Императорских театров, но мало способствовавший его художественному развитию. Тогдашние руководители казенной оперы решительно ничем не содействовали Шаляпину и продержали его на маленьких ролях, вроде Цуниги в «Кармен», судьи в «Вертере», князя Верейского в «Дубровском» и Панаса в «Ночи перед Рождеством». Раза два-три пел он Мефистофеля в «Фаусте» и Руслана. Выступления Шаляпина были не очень удачны, потому что артист, видя пренебрежительное к себе отношение со стороны тогдашней дирекции и сознавая свою беспомощность и брошенность, серьезно не работал, и мало кто продолжал возлагать на него надежды. И лишь при закрытии сезона, когда Шаляпин впервые выступил в одной из своих будущих коронных ролей, в роли Мельника в «Русалке», случилось нечто поразительное, точно гром грянул среди ясного неба. Было такое пение, такая игра, зритель был захвачен такою волною чувства, лившегося в звуках шаляпинского голоса, что у всех точно открылись глаза: «Боже, какой великий талант! Почему же раньше мы так мало его замечали?»
Но неизвестно еще, что произошло бы дальше, не натолкнись Шаляпин на Савву Мамонтова, не учуй в нем последний богатырскую силу, да не перемани он артиста из Петербурга в Москву. Здесь, в творческой атмосфере оперы, созданной Саввой Мамонтовым, просвещенным меценатом, истинным художником в душе, в обстановке исканий и проснулся богатырь к новой жизни (1896–1899). Все те сценические образы, которыми Шаляпин дивит мир теперь, получили свое первое художественное воплощение на сцене Мамонтовской оперы. Там впервые были сыграны им Иоанн Грозный, Борис Годунов, Сусанин, Мефистофель, Владимир Галицкий, Сальери, Досифей, Олоферн. Все эти образы в дальнейшем оказались бесконечно углубленными, но их основа добыта там, в строгой обстановке Частной оперы, где все работали, одушевляемые поисками идеалов в искусстве. И, когда осенью 1899 года Шаляпин вернулся снова под сень кулис Императорской сцены, он мог уже гордым взором окинуть окружающее.
А там последовало первое выступление за границей в миланском театре Scala (1901), впервые в роли бойтовского Мефистофеля, положившее начало его мировой славе. Так, звено за звеном, сковалась цепь головокружительной по блеску и красоте, единственной в истории русского театра карьеры артиста-певца, вышедшего из низов народа и без всякого воспитания и образования поднявшегося на самую высокую вершину, где ослепительно светит солнце большого искусства, — исключительно благодаря неисчерпаемому запасу таких творческих сил, что совершенно не страшно рядом с именем Шаляпина произнести слово: гений. Нет преувеличения в связи этих слов, потому что мы постоянно наблюдаем, как артисты, бесспорно одаренные талантом, и далеко незаурядным, теряют, когда оказываются рядом с Шаляпиным; он слишком подавляет их мощью своей творческой энергии; огонь, которым пронизано все его исполнение, вокальное и драматическое в строгой гармонии, бледнит свет, исходящий от их исполнения.