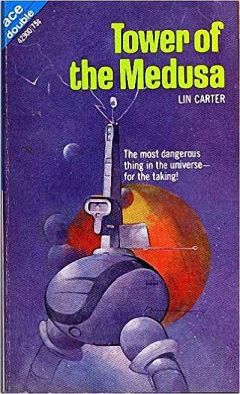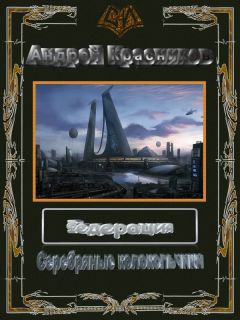Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура
Мы все молча встали.
Стояли долго.
И молчание было долгое, насыщенное, торжественное и страшное».
Дата воспоминаний — 1920 год, автор Евгений Вахтангов. Место чтения этих воспоминаний — Третья студия Художественного театра. Вся Россия, замученная войнами, голодная, промерзшая отмечает десятилетие ухода из Ясной Поляны ее хозяина и смерти его на станции Астапово, Тамбовско-Курского отделения железной дороги. Запись-воспоминание Вахтангова это возврат в десятый год и приближение давнего десятого к сегодняшнему двадцатому.
В десятом году Россия хоронила Михаила Врубеля, Архипа Куинджи, Веру Комиссаржевскую. Монотонно отчетлив голос Блока, читающего: «И струнно плачут серафимы»… Кто не слышал Блока — читал эти стихи в газетах, в списках от руки, в ремингтонных копиях.
Скорбь-плач о Толстом, в конце осени — начале зимы 1910-го, облетев всю землю, вернулся в Ясную Поляну.
Сулер — в потоке скорбящих; в общем потоке особенно ощутимо всё покрывающее чувство личной утраты.
Письмо Станиславскому — Марии Петровне от 18 ноября 1910 года:
«Дорогие мои Константин Сергеевич и Марья Петровна, — когда же увидимся? Я слышу, что не ранее 1 декабря. Я рад за вас за всех — там тепло, горы, небо; правда, я знаю, что, может быть, скучно, надоело, но хорошо и поскучать, раз кругом такая красота.
Ужасно хочется увидеться и переговорить обо всем.
Схоронил Толстого.
Последний раз по знакомой мне дороге, между березовыми рощами, прошел я с ним от станции до дому.
Вот тут, на перекрестке дороги и Тульского шоссе, я помню у него заупрямилась лошадь, на которой он ехал верхом, и мы переменились лошадьми. Там, на мостике, помню, вечером разговаривали о Чехове и Горьком; было тихо, спускалась ночь, и в избах яснополянских крестьян зажигались огни, а в узкой канавке тускло светилась вода, отражая вечернее небо; было тихо, безлюдно.
Теперь тут стоял синематограф и трещал, снимал гроб, в котором его несли крестьяне, гудел сотенный хор „вечную память“, и над густой черной толпой видна была палка с платком, которой махал дирижер.
Студенты, курсистки, представители, делегаты в черных пальто с барашковыми воротниками, делающими так похожими их всех друг на друга, десятитысячной толпой растянулись по дороге. Те же распорядители, кричащие „шире, шире“, как всегда бывает на похоронах видных деятелей, фотографы, кинематографы и скачущие по бокам казаки и стражники, мелькающие между березами серыми шинелями.
Необычна только кучка желтых полушубков среди черной толпы несущих гроб и идущих частью впереди гроба. Да еще отсутствие попов, кадила и прочих атрибутов.
Толпа мне не мешала, но, по-моему, нигде она не была так чужда тому, кого хоронят толпой, как Толстому. Так мне казалось.
За гробом, сжатые толпой, шли его друзья, тоже в черных пальто с барашковыми воротниками, — все мы с разных концов земли собрались, уже старые с проседью, с морщинами, и мне казалось, что эта черная река с колыхающимся над ней желтым гробом есть сама жизнь, текущая как река, захватившая и нас своим течением и заставившая своей могучей силой идти вместе с ней, по ее течению, туда, куда ей надо.
Вспомнилась вся наша молодость, все наши порывы, труды, даже жертвы и как все это было сломано и унесено потоком жизни — все наши попытки идти против ее течения. Как все ослабели, сдали, сломались, и несемся черными обломками, куда нас несет. И только он один до конца жизни все сильнее и сильнее шел вперед и вперед, отдав жизни свое тело, которое не могло поспеть за духом, который потому и оставил тело.
Помню, как давно он как-то говорил про свое тело: „Насел на меня этот Лев Николаевич и не пускает никуда, ужасно надоел этот сосед“.
Принесли его в дом и поставили в той комнате, где он едва не повесился на перекладине между шкапами во время своего душевного перелома.
Теперь то, что было Л. Н., или то, в чем был Л. Н., лежало тихо, и мимо него шли тысячи людей и земным поклоном прощались с ним, проходя длинной вереницей из одной двери в другую. Я все время стоял у гроба и не мог оторваться от этого дорогого лба, доброго, скрытого при жизни усами рта, от знакомой руки, на которой я знал каждый ноготь.
„Великий“ — так все время чувствовалось, еще больше, чем это чувствовалось при жизни. Но когда я вспомнил, как он любил шутки, песни, как он хохотал, заложив руку за пояс, детским смехом, — передо мной выплывал другой, какого знал только я и немногие. И как было больно потерять его.
Великий остался и останется навсегда, а потому он не утерян, не ушел, но того, доброго, друга, ласкового и нежного, кроткого и терпеливого, уже нет и не будет.
Того, кто страдал, кто плакал навзрыд, закрыв лицо руками как ребенок, от душевной боли и оскорблений, которые он перенес у себя дома от близких людей на восемьдесят третьем году, — того уже нет. Нельзя его ни приласкать, ни пожалеть, ни утешить, ни успокоить.
Он хотел уйти тихо, незаметно, никого не беспокоя, выйти хоть под конец жизни из ненавистных для его совести условий, а пришлось ему бежать ночью, в темноте, с одним верным человеком, бежать неизвестно куда, по тряской дороге, под дождем, куда глаза глядят.
Какое ужасное одиночество! Приехать на станцию и не знать, куда дальше ехать. Человек, завоевавший весь мир, 82-летний старик сидит ночью на глухом, вонючем полустанке и думает, куда бежать — на юг, на север, на восток или запад? И бежит дальше с первым поездом, надеясь по пути обсудить, где ему искать приюта.
Если его не сумели полюбить и уберечь — что же тогда можно делать?
И все мы прозевали этот момент, потому что не так любили, как надо было его любить. Слишком мы видели в нем „великого“ и забыли старика, нуждающегося и в ласке, и в любви, и во внимании.
И когда все это вспоминал, так было больно, стыдно, так было горько за это.
Теперь мы все собрались вокруг него, все приехали и смотрим растерянно, теперь мы ему уже не нужны. Поздно.
Я нашел книжку, на которой он написал: „Л. Сулержицкому в знак дружбы — Толстой“.
А я даже забыл, что была такая книжка, что была такая надпись. Я помнил только „великого“ и совсем забыл того, что был другом!
Между громадными деревьями мужики вырыли глубокую яму, так в полуверсте от дому. Здесь старик, когда был еще мальчиком, играл с братом Николенькой, которого он считал одним из замечательных людей. Николай взял зеленую палочку, вырезал на ней знаки какие-то, по которым на земле стало бы все счастливо, люди полюбили бы друг друга и прошло бы все горе человеческое, и они закопали эту палочку тут, с тем, что когда эту палочку откопают, то все так и сбудется на земле.