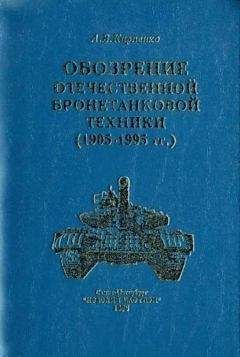А Герцен - Былое и думы (Часть 1)
У нас и в неофициальном мире дела идут не много лучше: десять лет спустя точно так же принимали Листа в московском обществе. Глупостей довольно делали для него и в Германии, но тут совсем не тот характер; в Германии это все стародевическая экзальтация, сентиментальность, все Blumenstreuen[115]; у нас подчинение, признание власти, вытяжка, у нас все "честь имею явиться к вашему превосходительству". Тут же, по несчастью, прибавилась слава Листа как известного ловласа; дамы толпились около него так, как крестьянские мальчики на проселочных дорогах толпятся около проезжего, пока закладывают лошадей, любознательно рассматривая его самого, его коляску, шапку… Все слушало одного Листа, все говорило только с ним одним, отвечало только ему. Я помню, что на одном вечере Хомяков, краснея за почтенную публику, сказал мне:
— Поспоримте, пожалуйста, о чем-нибудь, чтоб Лист видел, что есть здесь в комнате люди, не исключительно занятые им.
В утешение нашим дамам я могу только одно сказать, что англичанки точно так же метались, толпились, тормошились, не давали проходу другим знаменитостям: Ко-шуту, потом Гарибальди и прочим; но горе тем, кто хочет учиться хорошим манерам у англичанок и их мужей!
Второй "знаменитый" путешественник был тоже в некотором смысле "Промифей наших дней", только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения С. С. (еще не граф) Уваров. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски, потом переписывался с Гёте по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то, что песнопеть о самофракийских богах я самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гёте, в котором Гёте ему сделал прекурьезный комплимент, говоря: "Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге: вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть, — вы забыли немецкую грамматику".
Вот этот-то действительный тайный Пик де ла Мирандоль завел нового рода испытания. Он велел отобрать лучших студентов для того, чтоб каждый из них прочел по лекции из своих предметов вместо профессора. Деканы, разумеется, выбрали самых бойких.
Лекции эти продолжались целую неделю- Студенты должны были приготовляться на все темы своего курса, декан вынимал билет и имя. Уваров созвал всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генерал-губернатор и Ив. Ив. Дмитриев — все были налицо.
Мне пришлось читать у Ловецкого из минералогии — и он уже умер!
Где наш старец Ланжерон!
Где наш старец Бенигсон!
И тебя уже не стало,
И тебя как не бывало!
Алексей Леонтьевич Ловецкий был высокий, тяжело двигавшийся, топорной работы мужчина, с большим ртом и большим лицом, совершенно ничего не выражавшим. Снимая в коридоре свою гороховую шинель, украшенную воротниками разного роста, как носили во время первого консулата, — он, еще не входя в аудиторию, начинал ровным и бесстрастным (что очень хорошо шло к каменному предмету его) голосом: "Мы заключили прошедшую лекцию, сказав все, что следует, о кремнеземии", потом он садился и продолжал: "о глиноземии…" У него были созданы неизменные рубрики для формулярных списков каждого минерала, от которых он никогда не отступал; случалось, что характеристика иных определялась отрицательно: "Кристаллизация — не кристаллизуется, употребление — никуда не употребляется, польза — вред, приносимый организму…"
Впрочем, он не бежал ни поэзии, ни нравственных отметок, и всякий раз, когда показывал поддельные камни и рассказывал, как их делают, он прибавлял: "Господа, это обман". В сельском хозяйстве он находил моральными качествами хорошего петуха, если он "охотник петь и до кур", и отличительным свойством аристократического барана — "плешивые коленки". Он умел тоже трогательно повествовать, как мушки рассказывали, как они в прекрасный летний день гуляли по дереву и были залиты смолой, сделавшейся янтарем, и всякий раз добавлял: "Господа, это — прозопопея" [116].
Когда декан вызвал меня, публика была несколько утомлена; две математические лекции распространили уныние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-нибудь поживее и студента с "хорошо повешенным языком". Щепкин указал на меня.
Я взошел на кафедру. Ловецкий сидел возле неподвижно, положа руки на ноги, как Мемнон или Озирис, и боялся… Я шепнул ему:
— Экое счастье, что мне пришлось у вас читать, я вас не выдам.
— Не хвались, идучи на рать… — отпечатал, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессор.
Я чуть не захохотал, но, когда я взглянул перед собой, у меня зарябило в глазах, я чувствовал, что я побледнел и какая-то сухость покрыла язык. Я никогда прежде не говорил публично, аудитория была полна студентами — они надеялись на меня; под кафедрой за столом — "сильные мира сего" и все профессора нашего отделения; Я взял вопрос и прочел не своим голосом: "О кристаллизации, ее условиях, законах, формах".
Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову: если я и ошибусь, заметят, может, профессора, но ни слова не скажут, другие же сами ничего не смыслят, а студенты, лишь бы я не срезался на полдороге, будут довольны, потому что я у них в фавёре.
Итак, во имя Гайю, Вернера и Митчерлиха я прочел свою лекцию, заключил ее философскими рассуждениями и все время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора жали мне руки и благодарили, Уваров водил представлять князю Голицыну — он сказал что-то одними гласными, так, что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не присылал.
Второй раз и третий я совсем иначе выходил на сцену. В 1836 году я представлял "Угара", а жена жандармского полковника — "Марфу" при всем вятском бомонде и при Тюфяеве. С месяц времени мы делали репетицию, а все-таки сердце сильно билось и руки дрожали, когда мертвая тишина вдруг заменила увертюру и занавесь стала, как-то страшно пошевеливаясь, подниматься; мы с Марфой ожидали за кулисами начала. Ей было меня до того жаль или до того она боялась, что я испорчу дело, что она мне подала огромный стакан шампанского, но и с ним я был едва жив.
С легкой руки министра народного просвещения и жандармского полковника я уже без нервных явлений и самолюбивой застенчивости явился на польском митинге в Лондоне, это был мой третий публичный дебют. Отставной министр Уваров был заменен отставным министром Ледрю-Ролленом.