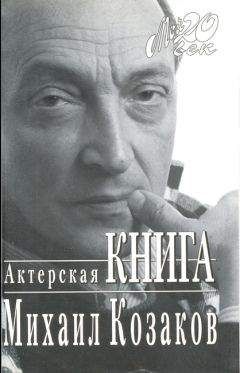Борис Слуцкий - Воспоминания о Николае Глазкове
Но, всерьез или не всерьез объявляя себя гением, он никогда — ни в стихах, ни в жизни — не был высокомерен, никогда ни к кому не снисходил, а нежно и искренне любил своих друзей, спешил им на помощь в трудные минуты, не оставлял без ответа ни одного письма, внимательно выслушивал несовершенные строки приходивших к нему стихотворцев и в каждом из своих знакомых умел находить хоть что-нибудь хорошее и интересное. Глазков естественно становился центром дружеских литературных компаний, но никогда не изображал из себя «мэтра», не вещал, не поучал, а честно высказывал свое мнение, по возможности щадя самолюбие ближнего. Если стихи, прочитанные ему, не нравились Глазкову, он либо смущенно похмыкивал: «Это… трогательно…», — либо точно определял уязвимые места стихов, был в суждениях своих немногословен и строг… Впрочем, я не помню, чтобы на него кто-либо обижался даже после весьма определенного отрицательного отзыва: он все умел скрасить добродушной шуткой. Зато если стихи товарища по поэтическому цеху ему нравились, он их запоминал, читал наизусть другим своим знакомым, пропагандировал.
Ах, если бы все, считающие себя гениями или литературными генералами, были в общении с людьми такими, как Глазков!
Могу сказать, что мне, может быть, и незаслуженно, но повезло: я в течение тридцати пяти лет чувствовал доброту и дружеское расположение ко мне Николая Глазкова и, каюсь, далеко не всегда умел это оценить и достойно на это ответить…
Осенью 1943 года я вернулся на очное отделение института, приехал из деревни в Горький, снова поселился в общежитии на Скобе. Вокруг Глазкова к этому времени возник кружок молодежи, причастной к поэзии, и внутри этого кружка складывалась своя система не только литературных отношений: Толя Борушко, как мне тогда казалось, увлекся Катей, я влюбился в Леру и посвящал ей стихи, а сам Коля Глазков питал нежные чувства к Лиде Утенковой и складывал в ее честь свои неповторимые строки, из которых моя память сохранила немногие, но яркие:
Мы в лабиринте. Ты не Ариадна.
Но все равно мне образ твой — как нить.
Тебе я непонятен — ну, и ладно!
Тебе я неприятен — ну, и ладно!
Ты думаешь, кого бы соблазнить.
Но таково судьбы предначертанье,
Что непременно будем мы вдвоем.
А здравый смысл, — в нем смысла ни черта нет!
И станешь ты моей секретарем!
Люблю тебя за то, что ты пустая,
Но попусту не любят пустоту.
Мальчишки так, бумажный змей пуская,
Бессмысленную любят высоту.
Кроме тех, кого я знал по летним встречам, в глазковском окружении прибавились новые лица: интересная, пишущая дерзкие стихи, молодая поэтесса Калерия Русинова и вовлеченный мной в глазковскую орбиту, совсем еще юный (ему не было и 15 лет) Риталий Заславский. Все они, как и товарищи Глазкова по институту, сохранили дружбу с Глазковым на долгие годы, покоренные неувядающим обаянием его личности и поэзии.
На исходе лета Коля Глазков съездил в Москву похлопотать о своем окончательном возвращении в столицу из эвакуации. Благодаря содействию Л. Ю. Брик и В. А. Катаняна, высоко ценивших талант Глазкова, ему удалось получить нужные документы. Дни летнего пребывания Коли в Москве — это время победоносного завершения Курской битвы, нового наступления нашей армии и первых салютов, так и не смолкавших потом до самого конца войны и принесших в мирные годы свои праздничные фейерверки.
Глазков из этой поездки привез новые стихи:
Был в Москве, послушал залпы, —
И до Горького катись!
Очень я любил вокзал бы,
Если б не бюрократизм…
Проклиная бюрократов, поэт противопоставляет реальному вокзалу — вокзал в Поэтограде:
Никаких таких там нет касс, —
В каждом зале, если надо,
Бюрократ торчит, как редкость,
Что-то вроде экспоната.
В славном городе поэтов
По воде хоть, по земле хоть
Каждый смертный без билетов
Может ехать — и не ехать.
Мне тогда очень нравилась, нравится и сейчас последняя строчка этого полушутливого стихотворения — она истинно глазковская: человек — не винтик, у него есть свобода воли, свобода выбора! Бюрократизм, а также глупость, пошлость, тупость, чиновничье чванство Глазков ненавидел всю жизнь. И не только потому, что унаследовал эту ненависть как традицию русской поэзии от Пушкина до Маяковского, но и потому, что сам в жизни много претерпел от бюрократов, перестраховщиков и пошляков и знал по собственному опыту, каково иметь с ними дело.
В этих стихах упоминается Поэтоград — «славный город поэтов». Поэтоград, как и литературное направление «небывализм», — порождение самого раннего, довоенного периода глазковской биографии. Образ Поэтограда как символического города будущего, очень схожий с представлениями Маяковского о времени и месте, «где исчезнут чиновники и будет много стихов и песен», — этот образ надолго сохранился в поэзии Глазкова, дал название одной из его книг и навсегда остался связанным с его именем.
Мое общение с Глазковым и другими друзьями осенью 1943 года продолжалось всего несколько недель: Коля готовился к переезду в Москву, а мне пришел срок идти в армию, повестка из военкомата уже лежала на моей тумбочке в общежитии. Мы еще успели, собравшись в квартире Надежды Николаевны Глазковой, отметить Октябрьскую годовщину, ознаменованную для меня и для моего земляка Риталия Заславского освобождением нашего родного Киева, и распрощались. Потом состоялась еще встреча нового, 1944 года — отец Риталия, военный юрист, попросил командование части, где я начал служить, отпустить меня на день в город. Снова собрались друзья, девушки, были тосты и стихи. Коля подарил мне толстую тетрадь своих стихов и поэм, написанных его характерным — косым и очень мелким — почерком. И каждый двинулся навстречу своей судьбе.
2Моя участь в те годы оказалась печальной: летом 1944-го, осужденный по клеветническому доносу, я очутился в подмосковном Бескудникове, в заведении, обнесенном рядами колючей проволоки и дощатым забором, по углам которого стояли сторожевые будки… Спустя десятилетие все разъяснилось и я получил официальный документ, где было сказано: «Приговор… отменить, и дело за отсутствием состава преступления производством прекратить». Но эти десять лет предстояло прожить и выжить!
Очнувшись от шока, вызванного постигшей меня бедой, и выяснив, что я нахожусь совсем близко от Москвы и что могу переписываться с родными и близкими, я написал Глазкову по его московскому адресу — Арбат, 44, квартира 22 — и очень скоро получил ответ, удивительно теплый, дружеский, сочувственный. А вскоре, тем же летом 1944-го, меня ждала и вовсе неожиданная радость: вернувшись в жилую зону с работы, я был вызван на вахту, где мне вручили передачу и записку. Ко мне приехали! Приехал Николай Глазков и мой школьный товарищ по Киеву Эмка Мандель — уже тогда известный поэт Наум Коржавин. Свидания нам не дали, но записку я прочел и передачу получил. Это было сказочное везение! Сказочной по тем временам была и передача: буханка хлеба и две банки свиной тушенки! Людям такого положения, как мои товарищи, такие продукты достать было можно только на «черном рынке», где буханка стоила рублей 200 тогдашними деньгами, а банка тушенки — чуть ли не 600 или 800!