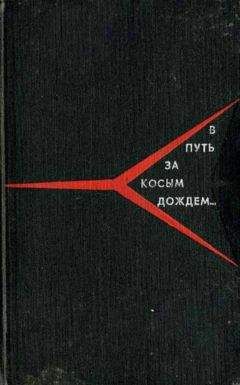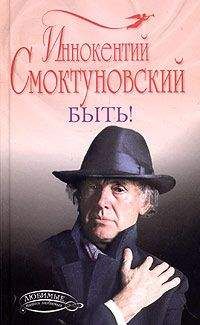Иннокентий Смоктуновский - Быть!
Внутри зрело, поднималось осатанелое желание доказать, убедить и… победить. Все же я был приглашен на пробу ассистентом режиссера. Пришел на репетицию. Затаился. Хотелось посмотреть, как ведет себя, как выглядит режиссер, которому, вопреки его желанию, подсовывают неугодного ему актера.
Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым-Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен, и ничего такого, что могло бы обнаружить или, того хуже, как-нибудь неприятно выявить его отношение к этой бросовой репетиции со случайно подсунутым ему актером, я не видел. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, – то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ромм вдруг заразительно захохотал. Я, не прерывая диалога, косил глазами в его сторону, стараясь увидеть, понять природу этого веселья. Этот мой взгляд приняли за проявление эксцентричной натуры Куликова. Хохот усилился, перейдя в сплошной и долгий.
Закончили этот отрывок диалога уже под дружный смех всех присутствующих и даже прослезившегося, симпатично стонущего Михаила Ильича. Я был удовлетворен, счастлив и мелко дрожал от ощущения власти, силы творчества, так сказать: захочу – будут смеяться, а захочу – будут и плакать.
Михаил Ильич утирал слезу. Кто-то гладил меня по плечу, хихикая в ухо. Храбровицкий, сидя в кресле, перебрасывал ноги с одной стороны на другую и, перегибаясь, словно у него болел живот, в голос хохотал: «Помогите, мол, ну, что делает? Уморил, мерзавец!» Сам я, видя, сколько дровишек поналомал, хохотал не меньше других, озираясь, ища на лицах подтверждения: «Правда, здорово? Верно ведь?..»
– Даже не предполагал, что это можно пустить по этакому руслу. Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно, интересно, необычно, смело. Ничего не скажешь… – И неожиданно: – Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой.
Ощущение победы, ликования как корова языком слизнула: «Ну да, конечно, у меня все не так, не то и не туда… А сам только что слезу пускал», – подумалось. Но сказал другое:
– Ну а что же, в конце концов, нужно, Михаил Ильич, дорогой?
– Избалованность, уверенность в себе нужна, нужен барчук с округлыми жестами, ленцой, не хорохорящийся, не эксцентричный – этого в тебе самом с избытком – а простой, легкий, ироничный и бесконечно добрый. И что самое необходимое – умный. Да перестань теребить пуговицу – видишь, какой нервный! А вот у него, у Куликова, пуговицы на его пиджаке должны уметь думать. Для него мыслить – значит жить, это его норма.
– Норма пиджака, что ли?.. – метнулась мысль. Страшное желание разоблачать, упрекать распирало меня, но сжав челюсти, молчал. Может быть, предложить сменить пиджак, взять с другими пуговицами или эти, немыслящие, спороть? Боясь рассердить, насторожить, промолчал и об этом, сказал что-то совсем другое. Было тяжело.
Уверенности поубавилось сразу и изрядно, желание утвердиться в роли и убедиться в доброжелательности режиссера ко мне осталось, став лишь оголтело-озлобленным. Естественно, озлобленность я старался скрыть – я улыбался. Общая же атмосфера на съемке этой пробы была доброй, рабочей и одновременно домашней. Делали варианты, все были довольны. Михаил Ильич в конце смены обнял меня и объявил:
– Думаю, все будет хорошо. Группой (так называется коллектив, который будет снимать картину) вы уже утверждены. Поезжайте спокойно к себе в Ленинград, отдыхайте, набирайтесь сил, вальяжности, покоя. Вам позвонят. Координаты ваши взяли? Ну и прекрасно. До встречи. Да и что это вы все время как-то странно улыбаетесь?.. Это вас не украшает. До свидания!
Все целовали, обнимали, трясли руки, хлопали по плечу, говорили всякие хорошие слова, а в рамке зеркала гримера, разгримировываясь, я увидел воткнутую бумажку, заявку на следующий день, где черным по белому было написано: «Кинопроба. Гусев – А. Баталов. Куликов – Юрий Яковлев в 11.00; в 13.00 Куликов —… (следовала очень известная фамилия, и еще какие-то две незнакомые фамилии, от которых веяло полнотой и вальяжностью, из чего можно было заключить, что Куликов пошел валом, косяком, как селедка, и Куликов этот был и холен, и вял, и толст, и ироничен).
Праздника не было. Ощущение пустой, холодной ненужности одиноко провожало меня со студии, смотрело долго в спину – в душу, пригибало, сутулило, стирало прочь с земли…
Пробовали многих. Сноб сменял уверенного баловня, последний уступал место современному Обломову, а тот, в свою очередь, предшествовал внешнему изыску и холености очередного типажа. Пробовали даже одного известного, не в меру располневшего в ту пору кинорежиссера, и тот грузно колыхался в калейдоскопе проб этого непростого персонажа, физика-теоретика Ильи Куликова.
Она манила, эта роль. Манила многих и многим. Была остра, свежа и необычна для того времени своими человеческими качествами. Появление такого характера в кино, а может быть, вообще в советской драматургии было делом необычным настолько, что заставило большинство проходивших пробы актеров считать Илью не только второстепенным героем, но и просто-напросто отрицательным персонажем, выведенным только для того, чтобы положительный герой был и впрямь положительным, без каких бы то ни было колебаний, сомнений и светотеней.
У меня же, напротив, ни в малой степени не возникало никаких мыслей о том, что Илья Куликов с каким-нибудь социальным, духовным или того хуже нравственным изъяном. Для меня он был не только положительным-переположительным, но, как это ни странно может показаться, вообще герой картины, один, единственный. Ну, правда, это тоже, может быть, крайность, продиктованная актерским эгоизмом. Впрочем, все это можно отнести к рабочей гипотезе, платформе, наличие таковой помогало Михаилу Ильичу и мне идти к человеку, которого мы и преподнесли зрителю в фильме, человеку высокого ума, легкой, но отнюдь не легкомысленной натуры – натуры сложной, глубокой, красивой и безмерно, по-детски ранимой.
Когда в Карловых Варах на пресс-конференции, где Илья Куликов был признан наисовременнейшим, глубоко положительным героем, мне был задан вопрос: «А как вот, мол, подобный герой, а точнее, исполнитель этого героя относится к известному традиционному «треугольнику», где ему уготована незавидная роль третьего лишнего?» – чувствуя выгодность позиции, почти не задумываясь, я выпалил, что никогда не считал и не считаю его третьим. Он первый. И единственный. И если она ушла от него к тому, к другому, то хуже от этого только ей, да еще, может быть, тому, к кому она ушла. Раздались хохот, аплодисменты. Михаил Ильич весело крикнул: «Прекрасный ответ!» – он бывал прост и непосредствен до детскости.
Уже снимая так называемый «полезный метраж» фильма, мы все еще продолжали репетировать, искать, прилаживаться и, как у нас принято говорить, притираться. Было острое стремление поставить себя, партнеров в ситуацию более близкую, чем это можно вычитать даже в столь добротном сценарии с первого, пятого, десятого раза прочтения. Мы, работники кино и театра, называем такое «распахиванием» или «погружением в материал». Нам довольно часто приходится слышать сочувственную фразу: «Как это вам удается запомнить такую уймищу текста наизусть?» Ах, если бы знали эти спрашивающие, что бывают такие времена в самочувствии актеров, когда знание огромных, сложных текстов наизусть – ничто, просто отдых по сравнению с постоянно ускользающим правом на произнесение этого текста! Ведь надо, чтобы текст этот произносился не вами, но тем персонажем, которого вы обязаны найти в себе, и чтобы персонаж этот был единственным правомочным рупором этих слов. Только тогда весь выученный вами текст, а вместе с ним и образ-характер станут убедительными и живыми. Вот труд. Вот гранит, алмаз и глыба, о которой, я уверен, даже не подозревают многие, думающие о кажущейся легкости нашей работы. Все же остальное – цветочки-василечки на солнечном лугу и в отпускное время.