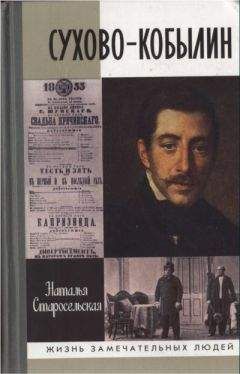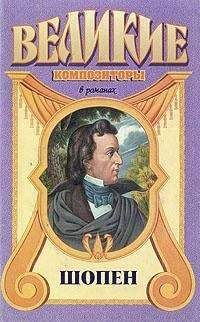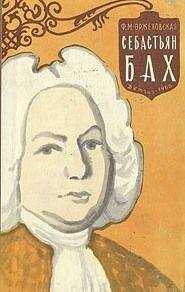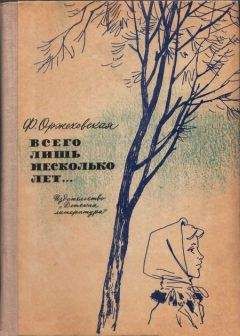Фаина Оржеховская - Пять портретов
Чайковский часто слыхал от Тани такие признания.
Ей становилось тесно в родной семье – и всегда скучно. Скучно в убогой Каменке и в Петербурге, куда она изредка приезжала, скучно и за границей.
В последние годы она хворала и все больше отдалялась от родных. Та отдельная жизнь, которую она вела, была им неизвестна и внушала тревогу.
Умерла она внезапно, на балу. Художник нарисовал мертвую Таню – в бальном платье, с красной лентой в волосах, на ее лице еще остался след улыбки… [85]
Что же было общего у этой девушки, не знающей, куда себя девать, с волевой, решительной героиней Чайковского? Отчего, создавая свою Лизу, он так часто думал о Тане? Что сближало обеих? Одинаковая ли судьба: безмятежная юность и потом – ранняя гибель?
Да, конечно, и это. Но было и другое.
Перебирая в памяти прежние каменские годы, он приходил к мысли, что Таня действительно была незаурядной натурой. Природа задумала ее широко, щедро. И когда во Флоренции Чайковский вспоминал юную Таню, ее прекрасные свойства, надежды, которые она возбуждала и которые не осуществились, он видел перед собой свое будущее создание – Лизу.
И другие современницы, близкие, похожие, вспоминались ему тогда.
…Он едва узнал сестру, хотя и привык в последнее время к ее болезненному виду. Седина в ее белокурых волосах сообщала им какую-то мертвенную тусклость. Она с трудом двигалась, не из-за болезни только: стремление к унылому покою, к неподвижности, постепенно все больше захватывало ее. Она словно застывала в кресле за рабочим столиком.
Но она сделала над собой усилие, сама собрала на стол к ужину, позвала всех домашних. И в глазах у нее появилось знакомое выражение, с каким она встречала любимого брата,– они светлели и улыбались невольно. Какой это был контраст с ее печальным, неподвижным лицом.
После ужина, который прошел с механической оживленностью, брат и сестра остались одни.
– Странная осень,– сказала Саша,– скорее похожа на весну.
…Они поговорили о ее внуках, о Петербурге, о новой пьесе Модеста, но это был внешний разговор, он не мог заглушить внутренний, напряженный диалог, в котором повторялись мучительные вопросы, а ответы были уклончивы. Есть вещи, о которых невозможно говорить вслух.
– …Помнишь воткинскую осень? – продолжала Саша тот внешний, не совсем безличный, но не самый необходимый разговор.– Как было весело, уютно.– И словно без всякой связи со сказанным, прибавила: – Наши родители были люди с чистой совестью.
– Ты в точности повторила нашу мать.
– Ах, что ты!
– Никто не может полностью отвечать за судьбу детей,– сказал он.– И наши родители кое в чем оказались бессильны.
Саша покачала головой.
Что он мог сказать ей? Чем успокоить? Только одним. Несмотря на поздний час, он подошел к фортепьяно и стал тихо наигрывать конец своей оперы.
Саша утирала слезы.
– Какой ты у нас счастливый! – проговорила она.– Может быть, так надо, чтобы ты единственный из всех нас достиг такой высоты. И все наши муки оправданы.
4
Ночью ему неожиданно вспомнилась Евлалия Кадмина.
Эта молодая актриса, умершая десять лет назад, была описана Тургеневым в повести «Клара Милич».
Кадмина была и певицей, и драматической актрисой. За это ее прозвали «Рашель-Виардо» [86],
Казалось, ничто не мешает ей быть счастливой. Но она была неспокойна, сумрачна; часто жаловалась, что нет для нее подходящей роли. Все не по ней. И публика раздражает.
– Для кого я играю? Для купчих? Все, что я делаю на сцене,– пошлость, ложь, и больше ничего.
– Вы поверхностно судите, Евлалия.– Чайковский говорил с ней строго.– Купчихи бывают разные. Вас слушает и молодежь – студенты.
Но она повторяла:
– Нет, я так не могу. Когда-нибудь сорвусь.
И однажды во время гастролей, играя Василису Мелентьеву, Кадмина в антракте приняла яд и умерла на сцене. Говорили – несчастная любовь, но никто не знал в точности… Была немногим старше Тани.
Еще одна жертва. Но такова была участь и его героинь. И он не был бы Чайковским, если бы не замечал прежде всего трагические судьбы.
Евлалия Кадмина была резка и прямолинейна в суждениях. И даже о романсе Чайковского «Страшная минута», который он посвятил ей, отозвалась довольно сурово:
– Этот крик в конце – зачем он? Слишком надрывно. А я и сама такая, мне нужно другое… Простите меня.
И внезапно – доверчиво, со слезами на глазах (именно такой описал ее Тургенев в одной из глав своей повести),– сказала:
– Знаете что? Напишите для меня что-нибудь простое-простое. Очень правдивое, чтобы я поверила. Только не романс и не арию, а песню.
Во Флоренции, когда он уже подходил к «Канавке» [87], Чайковскому вспомнился этот разговор… «Ах, истомилась, устала я…» Вот песня, о которой мечтала Кадмина. Ее уж не было на свете, да и партия Лизы не годилась для нее, у певицы был слишком низкий голос, глубокое контральто. Но характер песни, протяжный, заунывный, пришелся бы ей по душе. Здесь надо было не петь, а причитать – он слыхал такой плач в деревне.
Нужды нет, что Лиза у него графиня. Евлалия говорила ему, да он и сам знал, что в музыке нет каких-то особых «графских» страданий. Истинное горе – оно одинаково, что у графини, что у крестьянки.
Через несколько дней он уезжал из Каменки с облегченным сердцем. В глазах сестры уже не было прежнего пугающего выражения. Она даже ступала тверже.
Все эти дни в Каменке только и было разговоров, что о «Пиковой даме». И Чайковский, вопреки своей натуре, не прерывал похвал, оставался в роли кумира. Так нужно было для Саши. Это было самое удобное положение для ее души, единственное, которое не причиняло боли.
Три памятных дня
1
На генеральной репетиции были остановки, недоразумения. Значит, есть все основания думать, что премьера сойдет благополучно. Чайковский тоже поддался немного этому актерскому суеверию.
Беспокойства были немалые. Царь пришел на репетицию, а Фигнер опоздал на целый час. Все волновались. Голос у Фигнера заметно дрожал вначале. Потом он стал петь очень хорошо, но со злым лицом. Ему необходимо было разозлиться, чтобы собрать себя в кулак и показать, на что он способен. Несмотря на громкую славу Фигнера, царь был недоброжелателен к нему из-за его сестер-революционерок.
Чайковский страдал. Потому что сбылись его предчувствия! Самые убийственные недостатки оперы обнаружились во время генеральной репетиции. Что бы ты ни думал о своем создании, но только на сцене оно впервые начинает жить. Только там оно обнаруживает себя – это единственная реальность.