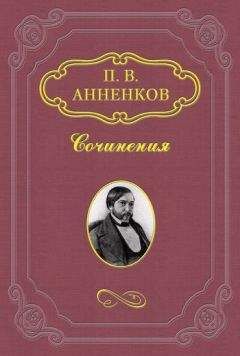Павел Анненков - Материалы для биографии А. С. Пушкина
Любопытно знать, в каком отношении стоял Пушкин к обеим враждующим сторонам и как понимал литературный спор в глубине собственной мысли. Никто тогда еще и не подозревал, что его произведения вскоре сделают спор этот анахронизмом и заменят оба понятия, соединенные с именами классицизма и романтизма, новым и гораздо высшим понятием творчества и художественности, отыскивающих законы для себя в самих себе. Он понимал сущность дела весьма просто, полагая разницу между обоими родами произведений только в форме их и говоря, что если различать их по духу, то нельзя будет выпутаться из противоречий и насильственных толкований. Вот что писал он для самого себя о вопросе, занимавшем тогда литературу нашу: «Наши критики не согласились еще в ясном различии между родами классическим и романтическим. Сбивчивым понятием о сем предмета обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных. Определение самое неточное. Стихотворение может являть все эти признаки, а между тем принадлежать к роду классическому. К сему роду должны относиться те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили. Если же, вместо формы стихотворения, будем брать за основание только дух, в котором оно написано, то никогда не выпутаемся из определений. Гимн Пиндара духом своим, конечно, отличается от оды Анакреона, сатиры Ювенала от сатиры Горация, «Освобожденный Иерусалим» от «Энеиды»{171} – все они, однако ж, принадлежат к роду классическому. Какие же роды стихотворений должно отнести к поэзии романтической? Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими»{172}.
Это простое, нехитрое определение обнаруживает вообще малую способность Пушкина к теоретическим тонкостям, что доказал он многими примерами и впоследствии. Чрезвычайно меткий в оценке всякого произведения, даже и своего собственного, он был чужд по природе той тяжелой работы мысли, какую требует отвлеченная теория искусства. Часто не хотел он доискиваться значения идеи, верность которой только чувствовал, и отрывочно бросал ее на бумагу в своих тетрадях. И вот пример:
Пушкина называли романтиком, и он сам себя называл романтиком, но под этим словом в уме его таилось совсем другое понимание. Так, он постоянно употребляет в письмах к друзьям выражение «романтическое произведение», но, видимо, соединяет с ним значение творческого создания, не принадлежащего к какой-либо системе или одностороннему воззрению. Другого выражения для истинной своей мысли он не находил, да, вероятно, и не искал. Всем известное и принятое слово обозначило у него понятие, о котором еще немногие тогда думали. Мы увидим в письмах его о «Борисе Годунове», что под именем романтической трагедии он разумел совершенно свободное проявление творящего духа в области искусства. Так, он беспрестанно пишет: «Я хотел бы написать что-нибудь истинно романтическое». В другой раз, мы уже видели, он говорит: «Важная вещь! я написал трагедию и ею очень доволен, но страшно в свет выдать – робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма… Сколько я ни читал о романтизме – всё не то»{173}. За этими простыми заметками можно различить мысль с художническом произведении; но он никогда не разбирал ее, предоставляя выразить вполне только своим созданиям. Действительно, они ясно указали законы, на которых должна основываться истинная теория искусства, и сделали из Пушкина, как уже замечено, настоящего учителя изящного и воспитателя эстетического вкуса в обществе.
Мы видели прежде, что Пушкин в переписке своей с П.А. Катениным отзывался снисходительно как о переводах своего друга, так и о классической трагедии вообще. Со всем тем, это была с его стороны только уступка, вызванная расположением к переводчику и мягкостью его суждений пред всяким дельным трудом. В эпоху пребывания поэта нашего на юге, если идеи его о романтизме выходили уже из разряда существующих тогда идей, то взамен классическая трагедия все еще оставалась для него явлением как бы незаконным и необъяснимым. Только в 1825 году в деревне своей, в Михайловском, за строгим трудом создания хроники «Борис Годунов» и за мыслями, вызванными ею, нашел он, как увидим, настоящее место и классической трагедии в ряду произведений искусства. Годом ранее он еще находился под неотразимым влиянием Байрона и вот что писал брату из Одессы (1824) по поводу нового перевода «Федры», тогда явившегося: «Читал «Федру» Л<обано>ва. Хотел писать на нее критику, не ради Л<обано>ва, а ради маркиза Расина. Перо вывалилось из руки. И об этом у вас шумят, и это называют ваши журналисты прекраснейшим переводом известной трагедии г. Расина!
Croyez-vous découvrir la trace de ses pas[125].
…….Надеешься найти
Тезея жаркий след иль темные пути…
Вот как всё переведено. А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии! План и характеры «Федры» верх глупости и ничтожности в изобретении. Тезей не что иное, как первый Мольеров рогач; Ипполит – le superbe, le fier Hippolyte et même un pen farouche[126] – Ипполит, суровый скиф… – не что иное, как благовоспитанный мальчик, учтивый и почтительный.
D'un mensonge si noir etc.[127]
Прочти всю эту хваленую тираду – и удостоверишься, что Расин понятия не имел об создании трагического лица. Сравни его с речью молодого любовника Паризины Байроновой: увидишь разницу умов.
А Терамен? Аббат и <сводник>
Vous même оù seriez-vous etc.[128]
Вот глубина глупости!..»{174}
Остается сказать о «Братьях разбойниках», рассказе, основанном на истинном происшествии, случившемся в Екатеринославле в 1820 году{175}. Он составлял отрывок из поэмы, которую Пушкин начал писать в 1822 году и сжег почти тотчас же, как написал, но план которой сохранился в бумагах его в следующей короткой заметке: «Разбойники, история двух братьев, атаман на Волге, купеческое судно, дочь купца». Чуткому слуху Пушкина сейчас открылось, что сознание душегубца слишком сложно, эффектно и потому не в русском духе, хотя картина разбойничьего стана и лицо рассказчика, выступающего из нее, написаны были мастерскою кистью. При пересылке отрывка в Петербург для напечатания Пушкин замечал: ««Разбойников» я сжег – и поделом. Один отрывок уцелел в руках у Н<иколая> Р<аевского>. Если звуки харчевня, острог… не испугают нежных ушей читательниц, то напечатай его. Впрочем, чего бояться читательниц? Их нет и не будет на русской земле, да и жалеть не о чем»{176}. Можно полагать с достоверностию, что из материалов, заготовленных для «Разбойников», вышла впоследствии, в 1825 году, пьеса «Жених», первый образец простонародной русской сказки, написанный уже в Михайловском, куда теперь, вслед за поэтом, и переходим[129].