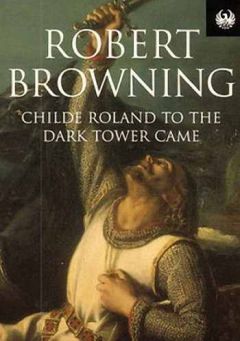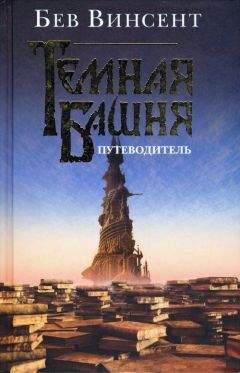Этти Хиллесум - Я никогда и нигде не умру
9.45. Пара Псалмов натощак — хорошее блюдо, его можно включить в свою повседневную жизнь.
Мы вместе прожили начало дня, и это было замечательно. Очень питательное кушанье. Только когда он сказал: «Теперь я хотел бы сделать гимнастику и одеться» — снова этот дурацкий укол в сердце. Я поняла, что должна подняться в свою комнату, и вторично почувствовала себя одиноко брошенной в этом мире. Однажды я написала, что хотела бы делить с ним свою зубную щетку. Стремление быть с ним вместе и в самых повседневных мелочах. И все же дистанция — это хорошо, плодотворно. Как только он позовет меня к завтраку за маленьким, круглым, стоящим перед ежедневно отцветающей алой геранью столом, мы снова обретем друг друга. О, птицы и солнце на крыше с галькой. И во мне такая ясность и душевное спокойствие. И покоящаяся в Боге удовлетворенность. От Ветхого Завета исходят исконные силы, и есть в нем что-то «народное». Там живут прекрасные ребята. Поэтичная, строгая форма. Библия, в сущности, необычайно увлекательная, суровая и полная чувств, наивная и мудрая книга. Она интересна не только тем, что в ней высказано, но и теми личностями, которые это передают.
10 часов вечера. Только вот еще что: отдельные минуты сегодняшнего дня как бы мгновенно улетучились, однако весь день покоится во мне как невредимое, отрадное целое, как воспоминание, которое когда-нибудь еще понадобится и которое носишь с собой как непрерывно присутствующую реальность. За каждой фазой этого дня следовала другая, перед которой блекло все предыдущее. Не нужно полагаться ни на спасение, ни на погибель. И то, и другое — крайние случаи, но ни на какие из них не надо рассчитывать. Пока речь идет о неотложных бытовых вещах. Вчера вечером мы говорили о трудовом лагере. Я сказала: «У меня не должно быть никаких иллюзий, я знаю, что умру через три дня, потому что не выдержу это физически». Вернер относительно себя того же мнения. Лизл же сказала: «Не знаю, у меня чувство, что я, вопреки всему, выстою». Хорошо понимаю ее, раньше у меня тоже было такое же чувство. Чувство неистощимой энергии. И, по сути, оно еще у меня есть, но это не нужно понимать материально. Дело не в том, выдержит ли все твой нетренированный организм, это относительно второстепенно; истинная сила скорее состоит в том, чтобы, уходя из жизни, вплоть до последнего момента чувствовать, что она прекрасна, наполнена смыслом, что все в тебе осуществилось и что жить стоило. Я не могу это по-настоящему правильно объяснить, все время пользуюсь одними и теми же словами.
Понедельник [6 июля 1942], 11 часов утра. Сейчас, наверное, целый час я смогу писать о самых необходимых вещах. Рильке где-то написал о своем парализованном друге Эвальде: «Но бывают также дни, когда он стареет и минуты проходят через него, как годы».
Так и через нас прошли часы вчерашнего дня. При прощании я слегка прижалась к нему и сказала: «Я бы хотела еще так долго быть с тобой, как это только возможно». Его рот придал лицу такое беззащитное, такое нежное, печальное выражение, и он сказал почти мечтательно: «Разве у нас еще могут быть собственные желания?»
А теперь я спрашиваю себя: не должны ли мы уже попрощаться и с нашими желаниями? Начав смиряться, не нужно ли смириться со всем? Он стоял в комнате Дикки, прислонившись к стене, и я с нежностью, легко прильнула к нему. На вид — никакого различия с бесчисленными подобными моментами моей жизни, но вдруг, словно в греческой трагедии, над нами распростерлось небо, на мгновение в моем сознании все расплылось, и так стояли мы в пропитанном угрозами и вечностью бесконечном пространстве. Быть может, в этот момент внутри нас окончательно произошел перелом. Он еще немного постоял у стены и сказал чуть не плачущим голосом: «Я должен сегодня вечером написать моей подруге, у нее скоро день рождения. Но что я ей напишу, нет ни настроения, ни вдохновения». И я сказала ему: «Ты должен уже сейчас попытаться примирить ее с мыслью, что она никогда не увидит тебя. Ты должен дать ей опору для дальнейшей жизни, вспоминая, как вы все эти годы, несмотря на физическую отдаленность, продолжали жить вместе. И что ее долг продолжать жить в твоем духе и таким образом сохранить твою душу для мира, сейчас важно только это». Да, так сегодня люди говорят друг с другом, и это не звучит больше нереально, мы вступили в новую действительность, в которой все приобрело другие краски, другие акценты. И между нашими глазами, руками, губами струился непрерывный поток нежности и сострадания, в которых исключалась малейшая страсть, а было лишь все добро, которое мы способны дать друг другу. И каждое «быть вместе» — тоже прощание. Сегодня утром он позвонил и задумчиво сказал: «Вчера все было прекрасно, мы должны в течение дня быть вместе столько, сколько это возможно».
А вчера днем, когда мы, два избалованных «холостяка», какими мы оба все еще являемся, за его круглым столиком поглощали обильный, не соответствующий нынешнему времени ланч, я сказала, что не хочу его покидать. Он стал вдруг строгим и убедительно произнес: «Не забывайте все то, что вы всегда говорите. Вы не должны этого забывать». В этот раз я больше не чувствовала себя (как это часто случалось раньше) маленькой девочкой, исполняющей роль в ушедшей далеко за пределы моего понимания театральной пьесе. В этот раз речь шла о моей жизни и моей судьбе. И эта судьба, полная угроз и неизвестности, веры и любви, окружала меня со всех сторон и подходила мне, как сшитое по мерке платье. Я люблю его со всем бескорыстием, которое недавно для себя определила, и не хочу малейшей тяжестью моей тоски и моих тревог повиснуть на нем. Отказываюсь даже от желания до последнего мгновения оставаться с ним. Мое существо постепенно превращается в огромную молитву за него. Но почему только за него? Почему также не за всех остальных людей? Шестнадцатилетние девочки тоже будут отправлены в трудовой лагерь. Если в ближайшее время придет черед голландских девочек, мы, старшие, должны взять их под защиту. Еще вчера вечером я хотела спросить Хана: «Тебе известно, что и 16-летних девочек призовут?», но я удержалась от этого вопроса, подумала: «Почему надо плохо к нему относиться, зачем делать его жизнь еще тяжелей? Разве я не могу сама справиться с этими вещами? Каждый должен знать о том, что происходит, это верно, но не нужно ли также хорошо относиться к другим и не нагружать их тем, что можно вынести самому?»
Несколько дней назад я подумала, что худшее для меня наступит, когда отнимут бумагу и карандаш и не позволят время от времени в себе самой создавать ясность, что для меня является самым-самым необходимым, в противном случае с течением времени во мне что-то сломается и уничтожит меня изнутри.