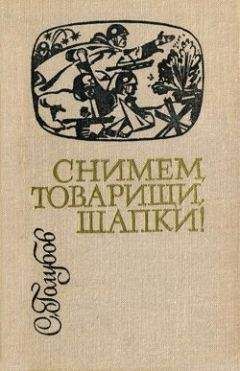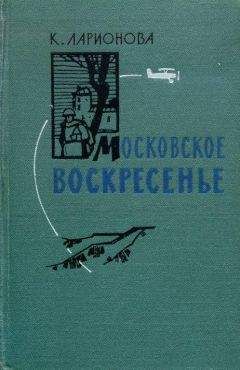Николай Колибуков - Аджимушкай
Чупрахин просит Запорожца, чтобы тот разрешил ему сказать несколько слов. Старший лейтенант противится, шепчет Ивану:
- Не положено тебе говорить, вопросы можешь задавать.
Но Чупрахин настаивает:
- Я только два слова.
И когда Гнатенко уходит от стола, Иван не выдерживает, громко говорит Панову:
- Подними голову выше, чего прячешь глаза! - И к Запорожцу тихонько: Вопросик я ему задам. Можно, значит? - Он вытягивается во весь рост, - Ты знаешь, Гришка, о чем я думал, слушая Семена Гнатенко? Конечно, не знаешь. А думал я вот о чем. Когда мы выйдем из катакомб, порешим с Гитлером, я обязательно женюсь. Вырастут у меня дети, привезу их сюда, в катакомбы, чтобы рассказать им, что такое война, что такое бойцы, которые не умирают. Но о тебе, Панов, ни слова не скажу. Значит, выходит, что ты и не жил, не было такого на свете!
Я записываю речи, у меня даже нет времени взглянуть на Панова. Когда я сообщил Егору о намерении Григория втихомолку покинуть катакомбы, Кувалдин тотчас же вызвал его к себе. Они разговаривали наедине. Я не знаю, о чем шла речь. Только сразу же после разговора Панов подошел ко мне, долго смотрел страшным взглядом мне в лицо. "Ты что же сделал?.." - произнес Григорий и зашагал в темноту. "Куда ты?" - окликнул я. "Не останавливай его, - сказал Мухин. - Он идет искупать свою вину". Алексей пошел вслед за ним. А я еще долго смотрел туда, где скрылся Панов, сопровождаемый Мухиным, смотрел и чувствовал на себе его взгляд, и было у меня такое состояние, словно только что по моей груди проползло холодное, скользкое тело гадюки.
"Пли, пли, пли", - выговаривает в кружке. Бегут строчки из-под моего карандаша. Чуть потрескивают фитильки в плошках. Запорожец уже читает приговор:
- "Именем самых справедливых законов Союза Советских Социалистических Республик..."
Стоя слушают бойцы. Семена поддерживает Маша. Тверже оперся на костыли Правдин.
- "...и на основании пятого параграфа приказа о создании подземного полка, руководствуясь требованиями обстановки, честью и совестью бойца Красной Армии, военный трибунал в составе председателя старшего лейтенанта Запорожца, народных заседателей красноармейцев Самбурова и Чупрахина постановил: отступника и презренного труса Панова Григория Михайловича приговорить к высшей мере социальной защиты - к расстрелу.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит".
У моих ног колышется длинная тень политрука. К Егору подбегает Мухтаров, он что-то говорит ему, показывая рукой в сторону западного сектора.
- По местам! - командует Кувалдин.
Немцы возобновляют взрывы. На этот раз гул слышится со стороны западного сектора.
В десяти метрах от стола сидит Панов. Над ним возвышается Мухин с автоматом в руках. Я собираю исписанные листки и кладу их в ящик, где хранятся штабные документы. Потом ищу кружку, упавшую со стола, и ставлю ее на место. Капли вновь, будто ничего не произошло, начинают отсчитывать минуты. Алеша спрашивает меня, показывая на Панова:
- Что делать с ним?
- Охраняй, - советую ему, затем беру автомат и направляюсь на свое место: по боевому расписанию сегодня я помогаю Маше ухаживать за ранеными.
- 13
Прошлой ночью Панов явился мне во сне. И приснится же такое! Пришел к амбразуре, где накануне я нес дежурство. Опустился на колени, предлагает закурить махорки. А сам все дрожит и хихикает. "Что ты, говорит, торчишь здесь! Брось эту трещотку, - на пулемет показывает, - и туда, на волю, не расстреляют. Меня вот не тронули". Злость взяла. "Как же, говорю, не тронули, пузырь вонючий, не тебя ли мы по приговору трибунала на веки вечные от земли своей отрубили?" Еще пуще захихикал. "Что ты, говорит, храбришься, ведь ты человек, значит, думаешь о спасении своей жизни. Бежим туда, чего медлишь!" - повысил голос и тычет рукой в сторону амбразуры. Поднялся я и на Григория с кулаками: "Не мешай другим жить, коли сам не смог". Размахнулся и бац, бац, да с такой силой. И тут я проснулся, вижу, Чупрахин держит за руку.
- Ты что дерешься? - спрашивает. Рассказал про сон. Иван потрогал тыльной стороной ладони мой лоб, спокойно сказал:
- Порядок. - И немного погодя размечтался: - После войны, надо полагать, будет установлен День Победы как всенародный праздник. Веселья хоть отбавляй. Мы с тобой, Бурса, эту дату будем отмечать по-своему. Приедем в Москву, к Кувалдину, поставим на стол огромный-огромный кувшин с водой: вот она, наша победа, пей сколько угодно.
А чего можно желать лучшего, когда так мучает жажда?
...Кувалдин создал команду по сбору воды. Эту работу возглавляю я. Добываем губами из влажных стен ракушечника. Сегодня собрали тридцать пять глотков. Камень ноздреватый, острый, и губы кровоточат.
Гремят заступы. Удары лопат напоминают отрывистый кашель людей: кхы-кхы, кхы-кхы. Это роют новый колодец, уже вошли в землю на глубину шести метров. Роют днем и ночью. Мухтаров оброс черной бородой, щеки опали, отчего нос стал еще больше. Иногда Али поет про Азербайджан. Песни его грустные. Чупрахин не любит их слушать, не нравятся они ему.
- Ну вот, завыл! - ворчит Иван, когда Али начинает петь.
- А ты послушай, - безобидно настаивает Мухтаров, - солнце встанет перед тобой. А слова-то какие: про горы, ручьи, которые звенят звонче серебра.
- Какой там звон, одна грусть... Не люблю я, когда человек не поет, а плачет. В жизни, как я полагаю, больше хорошего, чем грустного. Петь надо веселые песни, а от твоих, Мухтаров, комок в горле появляется, - упорствует Иван и демонстративно закрывает уши, когда Али начинает петь.
...Красные лепестки фитильков, рассекая вокруг темноту, еще резче оттеняют границу мрака. Впечатление такое, что там, в десяти метрах, бездонная пропасть: сделай несколько шагов - и ты полетишь в тартарары. И только зная, что за этой чертой находятся люди, противишься этому неприятному чувству.
...Туго приходится Запорожцу: странное дело - полные люди быстрее сдают. Вероятно, только обязанность командира заставляет старшего лейтенанта двигаться, отдавать распоряжения подчиненным. И говорит он тихо-тихо, а большей частью молчит. Да и вообще за последние дни как-то притихли все. Молча получают один раз в сутки пищу - три конфеты и глоток воды. Молча уходят на боевое задание, ложатся за пулеметы и ведут огонь, когда немцы пытаются через проломы в потолке проникнуть в подземелье. Только глаза у людей не изменились. Если правда, что глаза отражают мысли человека, то думы наши остаются неизменными - не сдавать гитлеровцам катакомб.
...Тянусь губами к холодному ребристому камню. Капля попадает в рот, хочется проглотить. Доносится стон: "Пи-и-ть". С силой выдавливаю изо рта собранную влагу. В мою флягу отдают воду все бойцы команды. У нас строгая норма: каждый обязан сдать столько, сколько добываю я. И никто меньше меня не сдал.