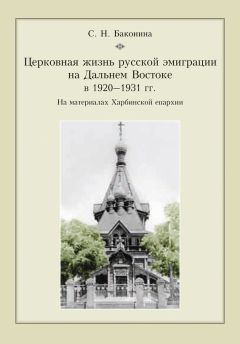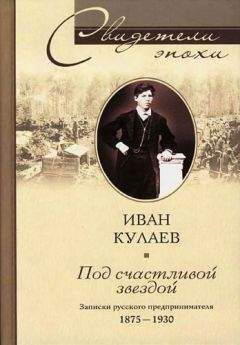Артем Анфиногенов - А внизу была земля
Помереть, погибнуть, ничего не сделав, никак не проявившись?
В горьких размышлениях об этом он еще до армии, на крышке школьной парты перочинным ножом вырезал три слова: «Россия, милая Россия…» Никто из активистов десятого «Б» не вздумал прорабатывать Бориса за порчу казенного имущества. Посоветовали закрасить остро белевшую строчку, чтобы не так бросалась в глаза. Он закрасил, затушевал, — с товарищами Борис всегда ладил. Но завуч — историк, прежде его не замечавший, прицепился. «Это не случайная выходка Силаева», — заявил он. Сердечный вздох тугодума был истолкован завучем как проявление скрытого анархизма, как склонность к беспочвенному пессимизму, «который может завести далеко не в ту сторону». Силаев выслушивал все это с интересом. «Выходка!» — настаивал завуч на обсуждениях, значительно намекая на некий уловленный им в умонастроениях юноши подтекст, — чего Силаев не желал уже ни слушать, ни сносить. Конфликт, надолго затянувшийся, ничем не кончился…
И в летной школе Силаев никому и ничего не доказал, хотя и пытался. Словарь блюстителей армейского порядка довольно скуп, но для свежего человека с «гражданки», вчерашнего десятиклассника, в нем много неожиданного. «Курсант Силаев разгильдяй!» — схлопотал он перед строем за плохо прибранную тумбочку. Не показав обиды, в спокойных выражениях Силаев взялся было разъяснять, какое это заблуждение: он из учительской семьи, где с детства приучают к порядку, и никто, никогда не называл его разгильдяем… не убедил. С кем ему особенно не повезло, так это с инструктором. Его инструктор Заенков был тем в жизни счастлив, что не опоздал, успел, — выскочил из военной школы лейтенантом, получил лейтенантское обмундирование, лейтенантские знаки различия за день до приказа наркома обороны, по которому военных летчиков по окончании курса стали аттестовать как младших командиров, присваивая им звание «сержант». Год, как работал Заенков инструктором, а все не мог успокоиться, унять своей радости, сам говорил, что просыпается по ночам и, не веря себе, ощупывает ворот гимнастерки, красные квадратики на нем, «кубари». Ретиво занимался спортом, спринтом, получал призы и грамоты. На разборы полетов с курсантами являлся одетым с иголочки. Тонкая кожа белесого, тщательно промытого лица пылает от ветра и солнца, бровки домиком слегка подбриты, от густых светлых волос, разделенных пробором, отлетает стойкий парфюмерный запах (инструктора за глаза звали Душистым). Лучшие часы Заенкова были, конечно, в воздухе, где так зримо проявлялось его превосходство над теми, кто, как его ученики-курсанты, подпали под приказ и кому теперь до лейтенантского чина служить, как медному котелку. Прежде чем сесть в кабину «р-пятого», Заенков обмахивал бархоткой пыль с надраенных сапожек, натягивал перчатки желтой кожи, потом прикреплял у себя на груди резиновый раструб переговорного устройства, «матюгальник», от которого в воздухе не отрывался, — матерщинником молодой инструктор был ужасным. Курсант человек подневольный, что ему остается: либо терпит площадную брань, либо старается ее не замечать. Силаев по натуре не кисейная барышня, и не подзаборная ругань сама по себе убивала его, а вот это желание унизить тех, кто и так лейтенанту не ровня, насладиться превосходством счастливчика… На беду Силаева, в нем что-то устроено так, что всякая обида, несправедливость, оскорбление вызывают в нем оцепенение. Потом он соберется, ответит, даст отпор, но первая реакция — боль бессилия, оцепенение. «Выбирай стабилизатор!» — орал на него из своей кабины Заенков, немыслимо изощряясь и не подозревая последствий, глубины обратного эффекта, силы тормоза, приведенного им в действие. Заенков бесновался, Силаев, сидя болван болваном, раз за разом повторял одну и ту же ошибку. Когда он ошибся в энный раз, Заенков, доведенный тупостью ученика до белого каления, двинул от себя штурвал сдвоенного управления так, что костяшки правой кисти, которой Силаев держал штурвал в своей кабине, расшиблись о стенку бензобака в кровь. На земле Заенков подлетел к нему, чтобы излиться до конца. Стоя навытяжку перед инструктором с глазами, полными слез, Силаев, стараясь говорить твердо, заявил: «Я с вами летать не буду!» — «Будешь, трам-тарарам! — заходился в крике Заенков, удивляясь слезам курсанта и не понимая их. Еще как будешь, трам-тарарам! Сначала сто посадок посмотришь, одну запишешь себе, а потом я подумаю, допускать тебя к полетам или нет!..» Все было так, как сказал Заенков. Из стартового наряда «махала» Силаев не выбирался, летал урывками, перебиваясь с хлеба на квас, по всем элементам летной практики Заенков выставил ему «четыре», что означало профессиональную непригодность, необходимость отчисления… а ведь шла война. Может быть, потому и не отчислили, что война: средств и сил на подготовку летчика было затрачено немало. Не отчислили, допустили к полетам на СБ — с другим инструктором. «И отец учитель, и мать учителка?» — встретил его новый инструктор. Курсанта Силаева никто об этом не спрашивал. Между тем в обращении инструктора были наивность и удивление, знакомые Борису с детских лет, по пионерским лагерям, где его всегда расспрашивали об этом новые приятели; вопрос вернул его в дом, в их семью, где в последние годы, несмотря на стычки с отцом, складывалась вокруг него атмосфера внимательности и заботы, как это часто бывает вокруг единственных сыновей, подающих надежды. Штатный «махала» как-то приободрился, повеселел; с той встречи, с того вопроса началась в жизни Бориса новая, светлая полоса. Его новым инструктором был лейтенант Михаил Иванович Клюев…
Но как мелки, как смешны, ничтожны тыловые мытарства Силаева — в школе и ЗАПе — в сравнении с тем, что началось для него июльским рассветом на Миусе.
С первого дня, с первого вылета, когда не стало Жени Столярова, все зло земли сошлось для Силаева в холодном звуке «мессер». Все его страдания и боль — от немецкого «мессера», «худого», смертного врага его ИЛ-2, «горбатого». Когда он стал курсантом, его долго преследовал страшный сон школяра: как будто выпускные экзамены, и он с треском проваливает химию. Ужас домашних, большой педсовет: выдавать ли Силаеву свидетельство… Теперь по ночам на него надвигались беззвучно мерцавшие пушки «ме — сто девятого», он кричал Конон-Рыжему: «Почему не стреляешь?! Стреляй!» Голос отказывал, летела сухая щепа вспоротого борта, отваливалось прошитое очередью крыло…
Так они сидели на свежих чехлах командирской машины, уточняя линию БС, боевого соприкосновения, и когда уже под вечер цель, наконец, определилась, худшее из опасений Силаева сбылось: Саур-Могила. Предчувствие, весь день жившее в нем, себя не оправдало.