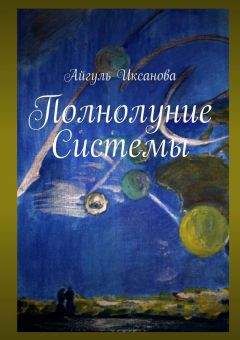Тамара Солоневич - Записки советской переводчицы
Слуцкий посмотрел на меня недоверчиво.
— А она поедет?
— Ну, конечно, поедет, я ее уговорю.
— Тамара Владимировна, у вас прямо таки «юдишер копф». Это замечательно.
Вечером я уговаривала Софью Либкнехт.
— Вы подумайте только — увидите Донбасс, настоящие шахты. Ведь вы никогда еще не спускались в шахты?
— Никогда.
— Ну вот, и, кроме того, проедете по России. А то что это — Берлин-Москва, Москва-Берлин. Вы давно не были на юге России?
— Тридцать лет.
— Ну вот, видите. Поезжайте. Будут очень интересные впечатления.
Прошло две недели. Ноябрьские торжества кончились, и делегации разъехались по своим странам. Как-то утром я сидела в Международном Комитете Горнорабочих и стукала на машинке. Отворилась дверь, и в комнату ворвался Слуцкий. Мрачный и злой.
— А, товарищ Слуцкий, приехали?
Он что, то буркнул в ответ, побежал к своему столу, порылся в нем. Потом схватил трубку и стал, по своему обыкновению, телефонировать всяким своим знакомым. Израилевич в комнате не было, Урисон-Фушман была больна.
— Ну, как съездили, товарищ Слуцкий?
— Как съездили, как съездили! Подвели вы меня, Тамара Владимировна, с этой Либкнехт. Я вас не раз недобрым словом поминал. Во-первых, она истеричка, во-вторых, она белоручка, в третьих, она с рабочими вздумала по-русски говорить. На чистейшем одесском наречии. Ну, вы сами себе можете представить, какой от этого эффект получился. Рабочие говорят: какая же это жена Карла Либкнехта, тот ведь немец был, а эта наша же русская, подделка, должно быть, фальшивка. Словом, полный провал. И потом, все не по ней. И гостиница грязная, и уборная ниже всякой критики, и я у нас в Германии гораздо чище… А то вдруг не захотела переводить, «мигрень» — говорит. Подумайте только — мигрень. Да у нас в Советском Союзе и о термине таком забыли — мигрень. Нет, уж увольте на следующий раз от таких женщин. Очень я на вас зол, что вы мне ее навязали.
Мне ничего не оставалось, как скромно потупить очи и промолчать.
***
Вечером я зашла к Софье Либкнехт в гостиницу. Она лежала на кровати с холодным компрессом на голове и еле отвечала на мои вопросы.
— У меня страшная мигрень. Ну и вовлекли вы меня в невыгодную сделку. Этот Слуцкий меня прямо замучил. Нет, уж я сама не рада была, что ввязалась в эту историю. Больше я с делегациями не езжу. И бескультурье же в Донбассе… Вообще всякий раз, как я тут долго пробуду, меня тянет обратно в Германию. В мою тихую квартирку, к моим книгам и роялю.
— Можно узнать, почему вы не поступили в партию?
— Я, знаете ли, не приспособлена для партийной деятельности, достаточно уже, что Карл ею занимался. Я — человек более романтически настроенный.
***
Я не знаю, где теперь Софья Либкнехт, но перед самым отъездом из СССР я слышала, что советское правительство поставило ей ультиматум: либо она навсегда переезжает в Советскую Россию, либо ей прекратят платить пенсию. И хотя официально пенсию ей выплачивал центральный комитет германской компартии, но, по существу, деньги эти, конечно, ассигновывались Москвой. Не принять этого ультиматума она не могла. И сидит она теперь где-нибудь в одной комнатенке в московском жилкооперативе, вспоминает о своей уютной квартирке на Байришер Платц и думает, вероятно, про себя, что ее дорогой Карл мог бы приложить свои силы на дело, гораздо более безубыточное и грязное, чем «освобождение всемирного пролетариата от оков проклятого капитализма».
В подвалах гостиницы «Европа»
Слово «подвал» само по себе звучит для каждого советского жителя грозно. Ибо оно всегда ассоциируется с «подвалом ОГПУ» или с «лубянским подвалом». Я хочу рассказать о несколько ином, более прозаическом, подвале. О подвале гостиницы «Европа», в которой обычно принимаются иностранные делегации.
В том же ноябре 1931 года я как-то сидела вечером в помещении «штаба по приему делегаций» на втором этаже гостиницы. Стоял холодный осенний вечер, я знала, что дома сын мой Юра голодает, что я обещала ему достать в каком-нибудь привилегированном кооперативе чего-нибудь съестного. На душе было тяжело и неуютно. Сама-то я питаюсь в гостинице, а вот ему-то каково! Работа с делегациями отнимала у меня весь день, и бегать по городу в поисках продовольствия у меня не было возможности. И мальчик мой в самом цветущем возрасте, когда организм наиболее интенсивно работает для наверстывания роста и общего развития организма, все худел и бледнел от недоедания. 1931 год в Москве был чрезвычайно тяжелым.
Возле меня на столе стоял телефон, по которому можно было переговариваться внутри гостиницы. Вдруг раздался звонок, я взяла трубку. Говорил комендант гостиницы еврей Варшавский.
— Алло, товарищ Израилевич там?
Действительно, Израилевич была тут же, она подошла к телефону, и между ней и комендантом завязался несколько таинственный и интимный разговор.
— Я здесь, Сашенька, что скажешь?
— …
— Значит сегодня можно прийти?
— …
— Да, у меня есть с собой чемоданчик.
— …
— Хорошо, я сейчас спущусь.
Только человек с очень ограниченными умственными способностями, проработав в СССР в еврейском окружении десять лет, может остаться равнодушным к такому диалогу.
И когда Израилевич положила трубку, я решила ее из своего поля зрения не выпускать.
— Лилли (она очень любила, когда ее так называли), куда вы идете? Что-нибудь интересное?
Вышло так, что мне помог случай. Как раз в это утро Израилевич, обычно очень вспыльчивая и резкая особа, наговорила мне грубостей, правда, потом извинялась, но все же чувствовала некоторую за собой вину. Поэтому мое обращение ее обрадовало.
— Знаете, Тамара, берите какую-нибудь сумочку или побольше бумаги и идите со мной. Варшавский даст нам кое-что «пошамать».
Я не стала спрашивать, что и как. Я почувствовала бесконечное облегчение в душе. Значит, удастся что-нибудь притащить Юрочке.
Спускаясь по лестнице, Израилевич шепнула мне:
— Только никому ни слова. Совсем конфиденциально.
Я мотнула головой.
Мы прошли уже первый этаж. Красивая лестница, крытая ковром, превратилась в витую узкую лестничку. Куда же мы идем?
Наконец, мы в подвале. Правда, в довольно приличном, чистом и ярко освещенном, но все же подвале. Длинные коридоры и по сторонам двери, запертые, кроме обычных, еще и на висячие замки. Кругом ни души. Наконец, посреди одного коридора упираемся в деревянную перегородку, запертую тоже на висячий замок. Останавливаемся.
— Подождем здесь. Саша сейчас придет.