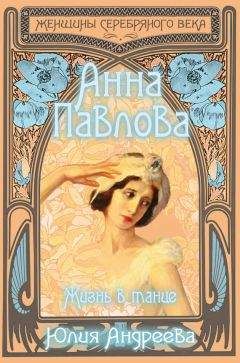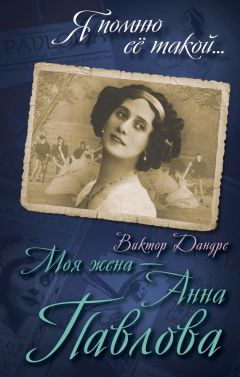Петр Стегний - Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг.
Дидро на мгновение замолчал, будто захлебнувшись, затем вновь обернулся к памятнику и, обняв Фальконе за плечи, продолжал:
— Зная о моем отношении к вам, вы понимаете, как я волновался, входя в вашу мастерскую. Я всегда понимал, что воплотить в жизнь этот замысел под силу только гению, и счастлив, что ваше творение вполне отвечает благородству и возвышенности мысли той, которая задумала этот памятник. Все сделано широко, прекрасно переданные детали не вредят общему впечатлению. Ни напряжения, ни труда не чувствуешь нигде. Можно подумать, что это работа одного дня.
По мере того, как Дидро говорил, Фальконе передавалось его воодушевление. Он ловил каждое слово, произносимое его великим другом.
Между тем, Дидро остановился и, посмотрев прямо в глаза Фальконе цепким взглядом хищной птицы, сказал на этот раз уже без улыбки:
— Позвольте, однако, мой друг, высказать вам одну жестокую истину.
Фальконе машинально наклонил голову. На лице его застыла полуулыбка.
А Дидро продолжал тоном значительным и серьезным:
— Я знал вас как человека весьма талантливого, очень искусного. — Он сделал паузу, как бы подыскивая слова. Углы рта его поползли вниз. — Никогда, никогда не предполагал я, что в вашей голове может родиться нечто подобное. Да и возможно ли было предположить, что этот поразительный, величественный образ может возникнуть рядом с изящным изображением Пигмалиона?
Фальконе опустил глаза.
— Оба эти ваши творения — редкого совершенства, но именно поэтому-то они, казалось, должны исключать друг друга. Вы гений, мой друг, вы гений. Вы сумели создать с равным искусством и прелестную идиллию, и отрывок великой эпической поэмы.
С этими словами Дидро, наконец-то, обнял Фальконе. Скульптор уже вполне владел собой и воспринимал похвалы Дидро как должное. Обернувшись к мадемуазель Колло, незаметно присоединившейся к ним, он поманил ее рукой и сказал:
— Вы много говорили о коне, но ничего не сказали о всаднике. А между тем мадмуазель Виктуар[63] это не может быть безразлично. Лицо Петра исполнено ею.
— Вся фигура Петра великолепна, — отвечал Дидро. — И в осанке, и в жесте есть величие, умение повелевать. Что же касается лица, то мне еще в Париже говорили, что оно очень похоже на его портреты. Теперь же я и сам вижу, что мадмуазель Виктуар нас не разочаровала.
С этими словами Дидро обнял и расцеловал девицу.
— Вы слишком добры ко мне, мэтр, — отвечала она, посматривая в сторону Фальконе, — Этьену пришлось так много поправлять в моей работе.
— Посадка Петра очень хороша, — продолжал между тем Дидро, — уверенная, властная. Герой и конь сливаются в прекрасного кентавра, человеческая, мыслящая часть которого по своему спокойствию составляет чудный контраст с вздыбленной стихией животного. Одеяние просто и исполнено в высоком стиле, приличествующем герою.
Дидро еще раз обошел вокруг памятника, вглядываясь в детали.
— Вы создали истинно прекрасное произведение, друг мой, — заключил он на этот раз спокойнее. — Оно чрезвычайно соразмерно. Смотришь с разных сторон, ищешь невыгодный ракурс — и не находишь его. Вглядываясь с левой стороны, предугадывая через гипс, мрамор или бронзу правую сторону статуи, содрогаешься от удовольствия, видя с какой поразительной точностью обе стороны сходятся. Прекрасная, прекрасная работа. Уверен, что мне захочется увидеть ее и во второй, и в третий, и в четвертый раз. И каждый раз я буду делать это с одинаковым удовольствием.
Потом уже, ужиная в маленькой гостиной Фальконе, сплошь заставленной гипсовыми слепками лошадиных голов и античных торсов, Дидро спросит у своего друга:
— Так что же, мэтр, вы и сейчас, прикоснувшись к вечности, не изменили своего мнения о суде потомков?
Несмотря на умиротворение, придававшее спокойствие и даже некоторую кротость аскетическим чертам лица скульптора, суждения его не утратили своей категоричности.
— Ничуть, мой друг, ничуть. Ваше мнение для меня по-прежнему более ценно, чем брань или похвалы тех, кто будет жить через сто лет после нас. Признание и успех хороши при жизни. До того, что будет после меня, мне нет дела.
— Да неужели же вам в самом деле безразлично, что скажут о вас будущие ценители искусства? — изумился Дидро.
— Абсолютно все равно, — равнодушно подтвердил Фальконе. — Да и, согласитесь, кто может поручиться, что наши потомки будут разбираться в скульптуре лучше, чем, к примеру, Винкельман. Читая его «Историю искусств», я был убежден, что конная статуя Марка Аврелия в Риме — образец совершенства. Я заказал и получил слепок этой статуи. И что же? Этот хваленый конь сделан с нарушениями правил не только оптики, но и физики. Голова его холодна и невыразительна, а судя по размерам и движениям ног, если бы он ожил, то мог бы скакать, двигая лишь задними ногами, но не передними. Тысячи глупцов, однако, повторяют вслед за Винкельманом глупейшие суждения о предмете, в котором ничего не понимают.
— Кстати, Дени, — продолжил Фальконе, — тот же вопрос, что и вы задала мне недавно наша великая женщина.
— Императрица? — поднял брови Дидро.
— И я ответил, что готов не подписывать под этой статуей своего имени.
— И что же она?
— В этом вся суть, мой друг, в этом вся суть. Ее ответ был прелестен. «Как вы можете полагаться на мой суд, — писала мне она, — когда я и рисовать не умею. Ваша статуя будет, быть может, первой хорошей, виденной мной. Всякий школьник больше моего смыслит в вашем искусстве».
— Какая женщина, какая удивительная женщина, — воскликнул Дидро. — Она совершенно права, давая приблизиться к себе: чем ближе ее узнаешь, тем более она от этого выигрывает.
— Да, — согласился Фальконе, — такой ответ сделал бы честь и Марку Аврелию. К сожалению, окружают ее невежды и остолопы.
— А где иначе? — живо возразил Дидро. — Со времен Рима у трона императора толпятся не философы, а подлецы. Да вспомните хоть наш Версаль, любой европейский двор, ну, может быть, кроме берлинского…
— И все же такие дремучие дураки, как в России, для Европы редкость, — упрямо продолжал Фальконе. — Возьмите хоть нашего здешнего наставника, Бецкого. Можете себе представить, что этот Сфинкс, как она его называет, вполне серьезно давал мне совет поставить памятник Петру Великому таким образом, чтобы тот одним глазом смотрел на здание Сената, а другим — на Адмиралтейство, находящееся в противоположной стороне?
— Вы шутите? — вскричал Дидро, заливаясь от смеха.
— А сколько крови он испортил мне со змеей, ползущей под ногами коня? — продолжал Фальконе, все более воспламеняясь. — Сколько ни объяснял я ему, что это аллегория зависти, обычного спутника великих людей, как ни доказывал необходимость дать тяжеловесной скульптуре третью точку опоры, как ни показывал сделанные мною вычисления — он требовал, да и до сих пор требует ее уничтожения. Лишь сознание важности доверенного мне дела и поддержка нашей августейшей покровительницы дает мне силы бороться с этим чудовищем.