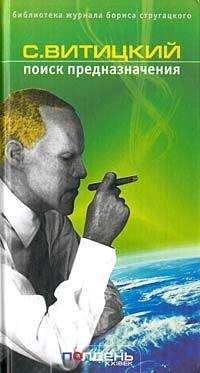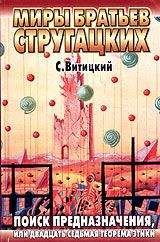Дмитрий Горчев - Поиск Предназначения (сборник)
От всего этого разило такой неприятной нереальностью, какая бывает только во сне, что я выпил купленной в привокзальном супермаркете водки гера, залез на верхнюю полку и заснул нахуй.
Проснулся часа через два, вышел в тамбур покурить. Там пили пиво Мудак Гена и литовский мужчина. «Какое право она имеет выбрасывать мой самогон в окно! – кричал Гена. – Мой дедушка гнал этот самогон, я заплатил за самый дорогой билет, а она выбрасывает в окно! Дедушка, понимаешь! Я шестнадцать лет ехал и увидел только могилки! А она в окно!» Я понял, что речь идёт об Еврейской Маме, и ушёл в вагон-ресторан.
Там ко мне вышла сонная печальная женщина. «А не дадите ли вы мне чего-нибудь съесть и водки сколько-нибудь?» – спросил я её. «Не знаю, – ответила женщина, – сейчас поищу, может осталось что-нибудь». Вынесла мне минут через десять холодную котлету с холодными макаронами и сто грамм тёплой водки. «Годится?» – спросила женщина. «Спасибо вам огромное», – ответил я искренне. Женщина села за соседний столик, закурила и стала смотреть в чёрное беспросветное окно. «Когда мы уже куда-нибудь приедем, вы не знаете?» – спросила она вдруг. Я пожал плечами – мне-то откуда про это знать.
В купе очень громко храпел угомонившийся наконец Гена (мудак не может не храпеть), он спал не снимая дорогих видимо очков. Я двинул его кулаком в бок. «А? Что?» – испугался Гена. «Храпишь», – сказал я ему мрачно. «А», – успокоился Гена и снова захрапел.
Проснулся я от того, что солнце светило мне прямо в морду. Выглянул в окошко – мы стояли на безвестной какой-то станции. Прямо напротив нашего вагона было заведение с вывеской «Бюро ритуальных услуг». «Родина», – понял я.
Родина
Не понимаю тех людей, которые живут в той стране, которую они ненавидят. Ходят они, всё им не так, морду воротят – деревья кривые, погода гадкая, кругом одни свиные рыла. Когда что-нибудь ёбнет, провалится или наши долбоёбы как всегда в футбол просерут – радуются: вот так вот вам! Вот так и надо!
Я вот не знаю решительно ни одной причины, по которой человек, желающий жить, например, в Испании или Франции, не мог бы там поселиться. Для этого нужно всего лишь приехать в эту самую Францию и там жить. Всё, больше ничего не нужно. Даже вон негры все, которые там хотели поселиться, уже давно живут, а что уж говорить про человека образованного и с профессией.
Но нет, не едут почему-то, ноют, причины разные выдумывают – мама больная, дети, квартира, работа, собака, ремонт, радикулит.
Это всё равно как жить с ненавидимым мужем, как это называется «ради детей». Нахуй такая жизнь нужна, и детям в первую очередь.
Зато когда наступает отпуск, они со страшной скоростью бегут в аэропорт – подальше, подальше отсюда, вон, прочь! В засиженную Турцию, в Египет, куда угодно, лишь бы отсюда.
Потом возвращаются, как солдаты из краткосрочного отпуска на родину, и уже с погранично-пропускного пункта всё им не так, и рыла у пограничников поганые. Что, впрочем, чистая правда.
А предложи такому человеку провести отпуск где-нибудь, скажем, под Кандалакшей, он так на тебя посмотрит, как будто ты нассал ему на голову. А скорее всего и вовсе даже не поймёт, чего это ему такое сказали.
А меж тем Кандалакша замечательна как минимум по двум причинам: во-первых, это родина великолепного телевизионного ведущего Андрея Малахова, а во-вторых, в Кандалакше самый высокий в России процент заболеваний венерическими болезнями на душу населения. И это ещё далеко не всё.
А те, кому эти сведения не интересны, могут пиздовать в свою Италию. Лично мне с ними разговаривать не о чем.
О жизни
В середине нулевых я каждый день ложился в кровать не раздеваясь, имел в кармане сумму денег, достаточную для проезда на такси и раздачи самых необходимых медицинских взяток, и был готов в любую секунду собраться за пять минут и ехать в противоположную часть города.
Барышня К. была напротив тиха и безмятежна: она развешивала в своём доме лампы, устанавливала ширмы и покупала в соседнем мебельном магазине матрац.
Однажды она, вовсе не среди ночи, а часов в шесть вечера позвонила мне на соседнюю улицу и будничным голосом сообщила, что у неё отошли воды и, кажется, она вот-вот начнёт рожать, хотя в этом ещё не вполне уверена.
Потом я суетливо встречал автомобиль скорой помощи, который никак не находил нужного дома, потом мы стояли в пробках, потом много ещё чего было интересного и не очень.
Совсем-совсем уже потом заспанная кастелянша в семь часов утра выпустила меня на улицу из приёмного покоя. Я дошёл до гастронома 7я, купил там бутылку портвейна алушта, вдавил пробку внутрь ригельным ключом, выпил половину и ровно ничего не почувствовал. Прошёл четыре квартала до метро ломоносовская, допил остальное и опять ничего не почувствовал, выбросил бутылку в урну, доехал до дома и заснул мертвецким сном.
Напомнил через год об этом событии барышне К. А у неё, оказывается, о том дне остались совершенно другие воспоминания.
И вот так всегда.
* * *Когда меня пригласили в родильное помещение, на животе роженицы лежало что-то такое, похожее на вырезанную из пациента опухоль, только хуже: грязное, фиолетовое, липкое и при этом шевелится. Да, я знал, конечно, что только что рождённые младенцы очень мало годятся для рекламы молочных смесей и памперсов, но не до такой же степени! Первого своего ребёнка я увидел таки на пятый день – порядки тогда были не в пример нынешним, суровые. «Поцелуйте!» – приказала мне вся покрытая бородавками акушерка. «Что? – подумал я в панике. – Вот ЭТО – целовать?» «Поздравьте мать!» – настаивала акушерка. Я с облегчением сообразил, что ЭТО целовать не требуется.
Из середины извлечённой опухоли выходил отливающий рыбным перламутром шланг. Акушерка перещемила этот шланг жёлтой прищепкой и с видимым удовольствием с хрустом перекусила его ножницами. «Ну всё, брат, приехал, – подумал я, уже начиная испытывать к опухоли сочувствие. – Обратно – теперь уже никак. Теперь вот тут, у нас. Извини, так уж получилось».
И тут вдруг из опухоли высунулась РУКА: настоящая человеческая рука – с пальцами, ногтями. На ладони этой руки клубились все возможные варианты будущей судьбы – тысячи линий жизни и смерти. И тут ОНО разлепило мутные свои глаза и на меня посмотрело.
Сейчас, когда прошло огромное количество времени, почти месяц, обо всём этом странно уже вспоминать: лежит в люльке совершенно человеческий младенец с наетыми щеками, болтает ногами и руками и даже умеет уже совмещать выражение лица с испытываемыми эмоциями, имеет имя, фамилию и удостоверяющий их документ. Он уже уничтожил шесть полных пачек памперсов и разучился видеть нас в перевёрнутом виде.