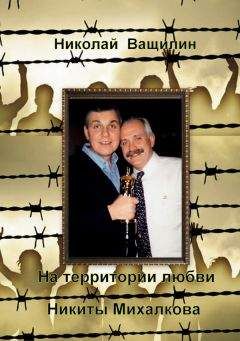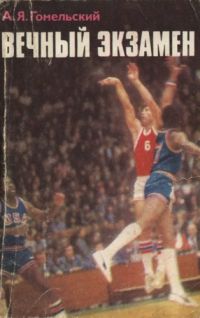Анри Труайя - Марина Цветаева
Такую же горячность проявил, высказывая свое мнение о «Разлуке», другой поэт-эмигрант, молодой Марк Слоним, который в пражском журнале «Воля России»[117] подчеркивал, что новая книга Марины Цветаевой – художественное явление мирового значения. Марина была взволнована этим комплиментом еще в большей степени, чем мнениями иных критиков, потому что незнакомый ей автор жил в Праге, а она уже обдумывала идею переселиться туда сама. В самом деле, раз Сережа поселился в этом городе и даже продолжает там свои университетские занятия, то почему они должны жить врозь? К тому же все говорят, будто в Чехословакии, где президентом Масарик, очень дружелюбно относятся к беженцам из России, принимают с огромным великодушием всех, кто пострадал от большевистской диктатуры, и даже будто правительство этой братской страны официально назначает пособие тем представителям русской интеллигенции, которые просят в Чехословакии убежища.
Потом эту информацию Марине подтвердит и Сергей Эфрон, который, получив наконец разрешение на выезд из Праги, сообщил, что скоро прибудет в Берлин. Мать и дочь стали готовиться к его приезду, как к большому празднику. И вот как маленькая Ариадна описывает встречу родителей: «Точная дата приезда моего отца в Берлин в памяти не сохранилась. Что-то произошло тогда: то ли запоздала телеграмма о его прибытии, то ли Марина куда-то отлучалась в час ее получения, только помню, что весть, со дня на день ожидавшаяся, застигла Марину врасплох, и мы с ней не просто поехали, а кинулись сломя голову встречать Сережу, торопясь, теряясь, путая направления. Кто-то предложил поехать с нами и тоже было засуетился, но Марина от провожатых отказалась: Сережу она должна была встретить сама, без посторонних.
Когда мы, с дрожащими от волнения и спешки поджилками, ворвались на вокзал, он был безлюден и бесполезно-гулок, как собор по окончании мессы. Сережин поезд ушел, и ушел давно. <…> Мы вышли на белую от солнца, пустынную площадь, и солнечный свет, отраженный всеми ее плоскостями, больно ударил по глазам. Мы почувствовали палящую городскую жару, слабость в коленках и громадную пустоту внутри – от этой невстречи. Марина стала слепо и растерянно нашаривать в сумке папиросы и бренчать спичками. Лицо ее потускнело. И тут мы услышали Сережин голос: „Марина! Мариночка!“ Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий, худой человек, и я, уже зная, что это – папа, еще не узнавала его, потому что была совсем маленькая, когда мы расстались, и помнила его другим, вернее – иным, и пока тот образ – моего младенческого восприятия – пытался совпасть с образом этого, движущегося к нам человека, Сережа уже добежал до нас, с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие.
Долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез.
С отцом, недолго прогостившим в Берлине, я виделась мало; он проводил все время с Мариной, со мной же был молчаливо-ласков; задумчиво, далеко уходя мыслями, гладил меня по голове, то „по шерсти“, то „против шерсти“. <…>
В вечер Сережиного приезда пили шампанское… Сережа, которому осенью должно было исполниться 29 лет, все еще выглядел мальчиком, только что перенесшим тяжелую болезнь, – так он был худ и большеглаз и – так еще сиротлив, несмотря на Марину, сидевшую рядом. Она же казалась взрослой – раз и навсегда! – вплоть до нитей ранней седины, уже резко мерцавшей в ее волосах».[118]
В течение нескольких дней, проведенных в Берлине, Сергею Эфрону удалось окончательно убедить Марину в том, что их будущее – всех троих – это Чехословакия, где царит атмосфера особого расположения к друзьям-славянам. Ему нужно возвращаться в Пражский университет, если он хочет получить все-таки высшее образование. Что же до Ариадны, то там она сможет учиться в одной из замечательных русских школ. Нет, конечно же, нигде не будет им так хорошо, нигде не станут к ним относиться лучше, чем в этой свободной и гостеприимной стране! И Марина, пусть даже еще и испытывавшая особую нежность, такую давнюю, к Германии – колыбели романтизма, родине Гёте, Шиллера, Гейне, – Марина позволила мужу увлечь себя проектом переезда.
Последним искушением – оно же рай для самолюбия – стало полученное ею еще в Берлине письмо от Бориса Пастернака, который, подобно другим, тоже выражал восторг по прочтении «Разлуки». Она была тронута, но, как всегда откровенная, призналась неожиданному корреспонденту, что плохо знакома с его поэтическим творчеством. Он сразу же прислал ей свой сборник «Сестра моя – жизнь». Едва открыв книгу, Марина испытала шок. Открытие! Нет, откровение! Пастернак – теперь она была в этом совершенно уверена – просто брат-близнец ей по характеру и по масштабу дарования. Она пожалела, что они так редко встречались в России. Ей бы хотелось встретиться с ним хотя бы здесь, тем более что вот он пишет: собирается скоро в Германию. Казалось бы, такая перспектива должна была обрадовать Марину, но она ее испугала, привела в ужас. Риск разочарования леденил душу. Будет ли он «самим собой» в этой прокуренной и шумной среде русских посетителей кафе «Прагердиле»? Да… Если уж до конца признаваться себе во всем, то лучше бежать от него… И, безумно желая остаться, она стала лихорадочно готовиться к отъезду, а ни о чем не подозревавший Сергей помогал ей.
На самом деле, подводя итоги одиннадцати недель, проведенных в Берлине, Марина поняла, что, зажатая в тиски дружбы с русскими эмигрантами, она вовсе не интересовалась жизнью города: ни разу не была в театре, в концерте, в музее (только в Зоосаде), не видела ни единого памятника, не познакомилась ни с одним немецким писателем. Ее берлинское счастье заключалось в том, что она много написала и вволю наговорилась. Наверное, потому она решила устроить праздник хотя бы для дочери – меньше чем за неделю до их последнего берлинского дня. Праздником этим стал… Луна-парк.
«…Луна-парк? при Марининой неприязни к „публичности“ развлечений, да и к самим развлечениям разряда ярмарочных? Может быть, дело было в том, что помимо аттракционов, обычных для парков такого рода, там наличествовал и необычный: с немецкой дотошностью выполненный – в естественную величину – макет целого квартала средневекового германского города; это должно было привлечь Марину с ее неизменной тягой к былому как истоку, обоснованию настоящего и грядущего; а может быть, ей просто захотелось порадовать меня? Так или иначе, однажды, в конце жаркого июля, мы, под водительством Людмилы Евгеньевны Чириковой,[119] отправились в Луна-парк – с самыми серьезными намерениями: все неподвижное осмотреть, на всем движущемся покататься.