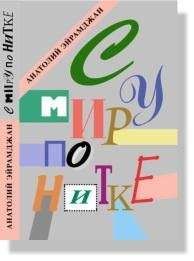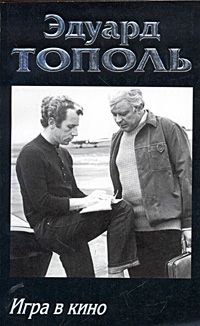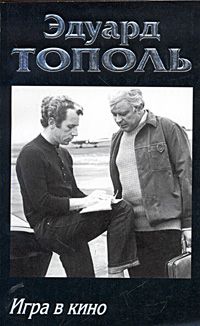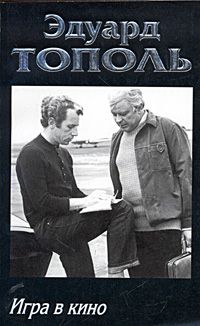Голому рубашка. Истории о кино и для кино - Эйрамджан Анатолий
Она поправила шарф и критически оглядела себя в зеркале.
— Пожалуйста, — сказал я, не веря в реальность происходящего.
Девушка закончила рассматривать себя в зеркале, осталась, видимо, довольна собой и царственно направилась к выходу. Я услужливо забежал вперед и открыл перед ней дверь.
— У вас есть какие-либо планы сейчас? — спросила девушка.
— Нет, я абсолютно свободен, — сказал я.
— Тогда, может, прогуляемся? — спросила она и взяла меня под руку. — Вы не против?
— Сочту за честь.
Я попытался держаться достойно, хотя был полностью сбит с толку. Такая активность со стороны девушки, принадлежащей явно к более высокому кругу, чем наши обычные знакомые, к тому же настолько привлекательной и стильной, что многие мужчины заглядывались на нее и оборачивались нам вслед, казалась мне неправдоподобной и загадочной. Обычно я кадрил девушек в поте лица, шел на разные ухищрения, чтобы заинтересовать их, вызвать симпатию и интерес. А тут вдруг все наоборот. «Может, она аферистка?» — пришла мне вдруг даже такая мысль, но жизненный опыт подсказал мне, что это не так. Не похожа была девушка на аферистку. Манеры, речь — все было натуральным, но из какой-то другой жизни, и создавалось впечатление, что такое царственное поведение для нее — норма. Да и зачем я мог быть нужен аферистке?
Мы спустились по Горького до Манежной площади: выяснилось, что она была в гостинице у своей подруги, которая проездом из-за границы остановилась в Москве. А я рассказал, что мой дядя, вырвавшись из дома, любит выпить и что я уложил его спать в номере, а сам тоже нахожусь под легким шафе, но свежий воздух и ее присутствие уже привели меня в порядок. Я рассказал ей, что учусь на сценарных курсах и живу в общежитии Литературного института, вспомнил к слову пару хохм из жизни нашего общежития. Понемногу ситуация стала «выравниваться», как говорят шахматисты, я уже не чувствовал, что инициатива полностью на ее стороне и в какой-то момент так расхрабрился, что предложил ей поехать со мной в общагу. И она согласилась. Представляете? Это совершенно сбило меня с толку. Такая чувиха и сходу едет со мной в общагу! Просто фантастика!
Мы сели в третий номер троллейбуса, и, пока ехали до улицы Руставели, выяснилось, что она живет с бабушкой, родители ее — дипломаты, находятся в Англии, а она закончила в этом году школу (мне она казалась гораздо взрослее) и не поступила в Суриковский, творческий конкурс прошла, а на общеобразовательных потеряла баллы.
Когда Павлюк увидел, какую бабу я привел, он пришел в страшное возбуждение. То и дело вызывал меня в коридор и жарким шепотом уточнял, закадрил я ее или меня с ней познакомили? А если закадрил, то неужели на улице? И что он не может прийти в себя — таких баб в нашей комнате еще не было. Может, у нее есть такая же подруга? Я сказал Мишке, что поговорю с ней по поводу подруги, а сейчас просил его технично оставить нас под благовидным предлогом. Я включил магнитофон — пел Трини Лопес, очень заводная музыка — почти всегда имела успех у наших знакомых. А ей не понравилось.
— А что ты любишь? — спросил я.
— Сюзи Кватро есть у тебя?
Я такое имя слышал впервые. Все же я был воспитан на джазе и даже «битлы», хоть мне и приходилось ради девушек держать их записи, никакого энтузиазма у меня не вызывали. А тут, как выяснилось, речь шла о роке, может быть, даже тяжелом.
— У нее обалденные вещи. Особенно «Глицерин Квин». У меня есть пластинка. Знаешь, я запишу тебе и принесу, послушаешь. «Глицерин квин, глицерин квин!» — стала напевать она.
Вот так она и осталась у нас под именем «Глицерин Квин». Потому что после того как она принесла к нам запись этой пластинки с «Глицерин Квин» и мы слушали ее не переставая, это имя прицепилось к ней. Она не возражала и сразу стала откликаться на «Глицерин Квин». И я до сих пор не помню настоящего ее имени.
А в тот день мы выпили с ней сухого вина, за которым сбегал по дружбе Павлюк, потанцевали, посмеялись и как-то очень естественно оказались в моей постели. Вот уж на что я совсем не рассчитывал, не ожидал, честное слово! Такая роскошная девушка и на раз, без особых уговоров, без ломаний и кривляний отдалась как настоящая королева! Не буду описывать все ее прелести, груди там, кожу, попку, поверьте, все у нее было в порядке, и вообще тогда я решил, что это был подарок судьбы. Я спрашивал потом не раз Глицерин Квин, почему она стала кадрить меня в гостинице «Минск» и почему отдалась мне в первый же день, и на все получал ответ: «Я тебя полюбила». Я в это не очень-то верил и приставал с новыми вопросами: «Как можно полюбить человека, впервые увидев его?». И получал такой ответ: «Очень даже можно».
— Но почему со мной так ни разу не случалось? — не сдавался я. — Чтобы я сходу влюбился, увидев девушку?
— Потому что ты мужчина, у вас это все, наверное, по-другому. А я как увидела тебя, когда ты надевал свою полудубленку, у меня чуть ноги не подкосились, — отвечала мне она.
— Хорошо, — говорил я, — а почему, кроме тебя, я больше ни на кого не производил такого ошеломляющего впечатления? Никто в жизни меня не кадрил, всегда я приставал к женщинам и не всегда добивался успеха.
— Значит, ты до меня не встречал ту, для которой ты единственный и неповторимый, — отвечала мне Глицерин Квин, и я в конце концов приходил к выводу, что она говорит правду. Может, в самом деле именно для нее, одной из тысячи или миллиона, я являюсь таким неотразимым. Ведь может быть такое в природе? Вполне возможно, никаких доказательств обратного пока нет. И во-вторых, к чему ей пудрить мне мозги?
Придя к такому выводу, я больше не приставал с расспросами к Глицерин Квин и воспринимал с ее стороны восторженное отношение ко мне как должное. Со временем это даже стало немного тяготить меня. Глицерин Квин не оставляла меня ни на один день — после занятий она ждала меня или у здания Театра киноактера, где находились наши курсы, или, если мы никуда не шли — в театр или кино, приезжала ко мне в общагу. Она стала как бы третьим жильцом нашей с Павлюком комнаты, правда, на ночь никогда не оставалась.
— Бабушка будет беспокоиться, — говорила она и уезжала домой.
Павлюк часто отсутствовал — вместе со своими сокурсниками-режиссерами он проводил много времени на Мосфильме, присутствуя на съемках картин. Или они, не будучи членами Союза кинематографистов, каким-то образом проникали в Дом кино на премьеры фильмов. Так что в основном в комнате мы с Глицерин Квин бывали одни, и если не занимались любовью, то я печатал на машинке свой дипломный сценарий, а Глицерин Квин слушала принесенные из дома записи или читала что-нибудь. Иногда заходил кто-то из моих сокурсников поболтать, и Глицерин Квин охотно принимала участие в разговоре. И как хозяйка угощала гостя чаем. Однажды она вернулась с кухни встревоженная.
— Слушай, там этот поэт из Мордовии жарит куски хлеба на сковородке. Без масла! Разве это вкусно?
— Значит, кончилась стипендия, — сказал Карпухин, который был в этот момент у меня. — Эти молодые дарования часто голодают. Потому, наверное, хорошо пишут.
— А можно, я отнесу ему масла и пару яиц, подложу ему в сковородку? — спросила Глицерин Квин. — Получатся гренки.
— Можно, — разрешил я.
— Только учти, он может и обидеться, — добавил Карпухин.
Вскоре Глицерин Квин вернулась с победным блеском в глазах.
— Он принял все и в благодарность обещал посвятить мне стихи! — сообщила она нам.
А через несколько дней Федор принес к нам, держа как ребенка, Алешу и попросил оставить его на полчаса, так как у них сгорел матрац, в комнате жуткая вонь, надо проветрить, а Алеша спит, так как всю ночь работал — сочинял поэму, и если его оставить в комнате, он может простудиться. Я разрешил положить Алешу на койку Павлюка, Федор осторожно уложил его и накрыл банным полотенцем. Так Алеша пролежал у нас весь вечер, потому что Федор куда-то ушел и, очевидно, забыл о нем. Нам же с Глицерин Квин он совсем не мешал, его даже не было слышно. А когда часа через три Алеша проснулся и увидел Глицерин Квин, то сразу стал извиняться за то, что еще не написал стихотворение, посвященное ей, но обязательно напишет, как только закончит свою поэму. К чести его, надо сказать, что слово свое он сдержал и подарил Глицерин Квин стихи, отпечатанные на мелованной бумаге с вензелями. Я запомнил из них только две строчки и то чуть переиначенные мною, потому что я часто, шутя, читал их Глицерин Квин. Вот они: