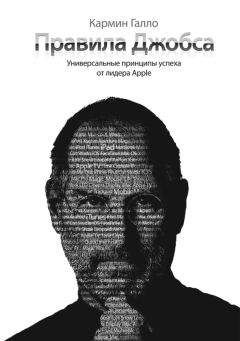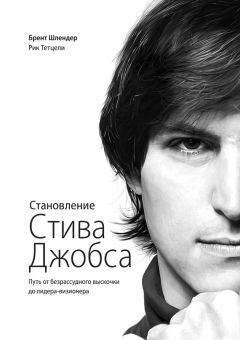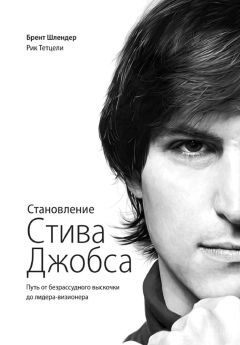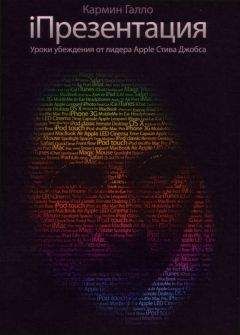Евгений Евтушенко - Волчий паспорт
Вот какую роль в моей жизни когда-то сыграл Евтушенковед Номер Один, сидевший за рулем кособокого красненького «жигуленка», двигавшегося по Кутузовскому проспекгу к Белому дому параллельно с потерявшимся танком, в чьем люке затравленно вертел головой танкист-таджик.
Евтушенковед Номер Один, как военный человек, понимал больше меня, какой страшный размол людей могут устроить зубцы армейской и кагэбэшной машины, если они будут запушены на полный ход, и не мог сам не бояться. Но он помог мне победить мой страх, как тот сосед на тропинке в лесу, и победил свой. А еше мы победили и совместный страх перед нашими женами, устроившими нам обоим за наши революционные намерения головомойку под лозунгом: «Если тебя, дурака, убьют, домой лучше не возвращайся!*
Если бы от меня зависело, как называть в российском календаре день 19 августа, я бы назвал его День Преодоления Страха.
Автограф с ошибкой
Это Евтушенко. Пропустите его, — раздался шаляпинский бас из-под маски.
Маска-чулок была черная, шерстяная, с тремя узкими прорезями для глаз и рта.
Глаза были молодые, но пронизывающие. Во рту, из угла в угол губ, прогуливалась прозрачная детская карамелька.
Маска и голос принадлежали великану в пятнистой десантной форме, стоящему с автоматом у маленькой служебной двери Белого дома, как музейный рыцарь с опущенным забралом.
Он был одним из десантников, перешедших на сторону российского парламента, и маска не являлась театральным атрибутом. Никто еще не знал, чем все это кончится, и каждый из них мог попасть под трибунал — равно как за выполнение приказов, так и за их невыполнение. Все зависело от того, чья возьмет. Так что приходилось надевать маски.
К моему плечу величественно прикоснулась рука, только что привычно лежавшая на автомате, и, благодаря ее покровительству, я оказался внутри окруженного танками Белого дома.
Я ожидал увидеть все, что угодно, но только не то, что увидел.
В Белом доме ПОЧТИ НИКОГО НЕ БЫЛО.
В центральном холле, на мраморных ступенях лестницы, застланной партийно-красным ковром, сидело всего-навсего человек тридцать вооруженных десантников, явно не знающих, что предпринять. Лица у них были скучающие и неуверенные.
Закрыт был книжно-газетный киоск, где под витринным стеклом рядом стояли «Лолита* Набокова, «Исповедь на заданную тему* Ельцина, чудом сохранившаяся от живковских времен болгарская зубная паста и французские духи «Сальвадор Дали», из-за которых, казалось, выглядывал сам Великий Маг, изумленно крутя и без того закрученный ус и напрасно пытаясь осмыслить сюрреализм истории в его русском варианте.
Неизвестно как залетевший в Белый дом воробей перепархивал в гардеробе с одного пустого металлического крючка на другой, и номерки, задетые его лапками, чуть позванивали.
К стене с куском облупившейся штукатурки была приставлена лестница-стремянка, заляпанная белыми брызгами, а рядом с ней, на старой газете с фотографией Горбачева и Рейгана, пожимающих друг другу руки, стояло ведро с раствором, откуда торчала кисть маляра, который, видимо, счел самым умным сегодня не появляться.
Парламентский кот, однажды спасительно прыгнувший на стол президиума во время чьей-то занудной речи, сегодня напрасно скребся в дверь вскормившего его правительственного бу-фета, ибо тот еще не был открыт.
Коридоры власти вымерли.
Исчезли просители, готовые двумя застенчивыми пальчиками положить на уголок стола конвертик вежливости.
Исчезли чиновники, с не меньшей застенчивостью деликатно готовые этот конвертик как бы не заметить.
Исчезли жены чиновников, выносившие из того же буфета, куда скребся кот, набитые сумки, из которых, словно в фильме ужасов, высовывались то немецкие сосиски, как отрезанные пальцы в целлофановой упаковке, то кубинские бананы, как зеленые носы утопленников.
Только тень Воротникова, как статуя последнего коммунистического командора, обходила свои бывшие владения, скрывая под очками, полученными им в клинике ренегата партии — доктора Федорова, скупые мужские слезы.
Казалось, что танки окружили не последний оплот демократии, а пустоту.
И вдруг я увидел красный воздушный шарик.
Шарик выплыл из-за поворота пустого коридора власти, кажущегося бесконечным.
Шарик слегка подтанцовывал над ковровой дорожкой, волоча по ней кем-то упущенную нитку.
Вслед за воздушным шариком из-за поворота выскочил мальчик лет трех, пытаясь ухватить то нитку, то сам шарик, но они не давались в руки.
У мальчика была такая же кругленькая мордочка, как у шарика, если бы на нем чьей-то веселой кисточкой были бы нарисованы любопытные глазенки, вздернутый веснушчатый нос и губы бутончиком.
По законам движения воздуха шарик влекло к открытому коридорному окну, где на подоконнике в круглой жестяной коробке из-под датского печенья, купленного, наверно, в том же самобраном буфете, еще лежали вчерашние холодные окурки.
Мальчик догнал шарик у самого подоконника, но когда попытался схватить, то лишь задел его кончиками пальцев.
А шарику только этого и надо было. Шарик подпрыгнул, нырнул в окно и полетел в голубом бесконечном пространстве, высоко над танками, баррикадами, над пока непривычными трехцветными флагами, над городом, который еше не знал, что его ждет.
Мальчик горько заплакал.
— Не надо плакать. У тебя еще будет много шариков, — сказал я ему. — А ты чей, мальчик? Как ты сюда попал?
— Я с бабушкой.
— А где она? Кем она работает?
— Она здесь самая главная. Слышишь ее, дядя?
Я прислушался.
Где-то далеко-далеко в конце коридора раздавался стук одинокой пишущей машинки.
Я взял мальчика за руку, и мы пошли на этот первый услышанный мной в Белом доме живой звук.
Бабушка сидела за пишмашинкой и перепечатывала несколько мятых, испещренных помарками рукописных страничек. Бабушка курила и, что очень редко делают женщины, выпускала дым из тонко вырезанных, чуть злых ноздрей.
Бабушка была красивая и почти молодая. Глаза у нее были большущие и зеленущие, как два яйца, выточенные из малахита.
У бабушки была лебединая шея балерины, но воротник блузки упирался почти в подбородок, скрывая морщины А вот «гусиные лапки» вокруг малахитовых глаз спрятать было невозможно. Седину она носила с достоинством, словно корону из серебра с чернью.
Бабушка, не отрываясь от пишмашинки, лишь на мгновение полыхнула холодным малахитовым пламенем поверх очков и, ошеломив меня, сказала с едва заметной усмешкой.
— Спасибо, Женя. Тронута. Не ожидала, что ты будешь нянчить моего внука.
А я не мог оторваться взглядом от ее лица, сквозь моршины которого медленно проступило лицо пятнадцатилетней девочки.
какой она была, когда я впервые ее увидел. У нее были такие же малахитовые глаза, только сейчас в них стало гораздо больше чернинок.
Она была внучкой няни моего первого сына, и та иногда брала ее к нам на дачу. Эта девочка была похожа на ангела, который как можно скорее стремился стать падшим. Ее ноздри, тогда еще не злые, а только нетерпеливые, трепетали от Жажды стать женщиной.
Улавливая в малахитовых глазах этой девочки женскую при-зывность, я невольно отводил взгляд. Лолиты меня всегда пугали. Или я боялся себя самого? Однажды мы взяли ее с нами купаться. У девочки не было купальника, и моя жена дала ей свой. Когда все остальные купались, девочка вышла из пруда и, обтянутая мокрым сверкающим купальником, как будто чужой, взятой взаймы кожей, дающей ей право на меня, сделала шаг ко мне. Неожиданно я увидел сине-красные кровоподтеки на ее хрупких тоненьких ногах и руках.
— Что это? — растерянно спросил я.
— Это меня соседская собака покусала, — беспечно махнула она рукой.
Девочка бесстрашно, с нескрываемым смыслом глядела мне в глаза, и я невольно отступил. Девочка сделала еще один шаг, и я снова отступил. Тогда я впервые увидел, как зло могут трепетать ее ноздри. После этого она перестала бывать у нас на даче.
Через пять лет она позвонила мне, чего раньше никогда не делала.
Подруливая к углу, где мы договорились встретиться, я еле узнал прежнюю угловатую девочку-подростка в двадцатилетней, слегка накрашенной, слегка зловатой красавице и увидел, сколько новых чернинок появилось в ее малахитовых глазах. Резко открыв дверцу машины и стремительно оказавшись со мной рядом, она сразу сказала:
— Можешь себя поздравить… Со мной случилось все, что тебе облегчит совесть. Я уже совершеннолетняя. У меня уже был мужчина. И даже забеременеть от тебя не смогу, потому что беременна…
А потом, когда мы остались вдвоем, она заплакала, но бесслезно. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь плакал так долго и в то же время без единой слезинки.
— Ты ничего не понял тогда, — прорыдала она сквозь свои бесслезные слезы. — Ты испугался моей любви. Но я хотела быть с тобой как можно скорей не потому, что я была чокнутая девчонка, как тебе казалось. Меня тогда преследовал мой отчим. Я не говорила ни слова матери — это ее бы убило. Каждую ночь я строила баррикады в моей комнатенке, а он все-таки врывался, мучил меня. Я вся была истерзана, помнишь? Я хотела, чтобы моим первым был только тот, кого я люблю. Разве я не имела на это право?