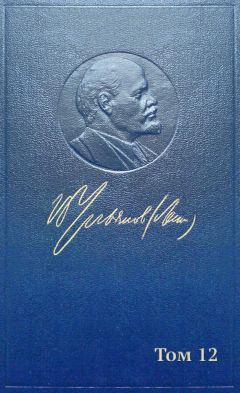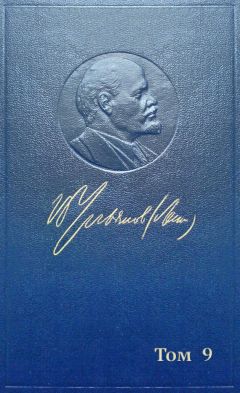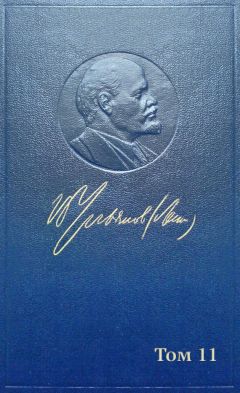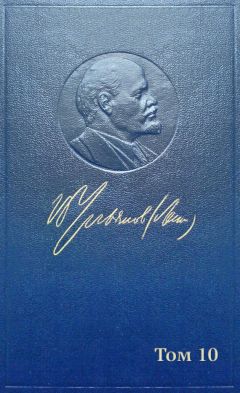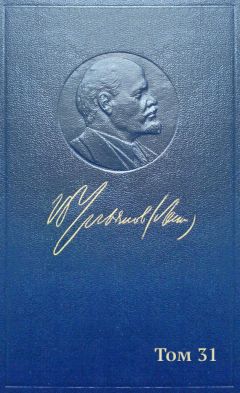Астра - Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Бакунина
Уже стоял май. Садовое кольцо и все палисады были в цвету, отошли короткие черемуховые холода, стало тепло. Вся Москва засобиралась в деревню, в дворянские имения, на приволье лесов и полей.
— Приезжайте, господа, к нам в Прямухино! — приглашала всех madam Бакунина.
Они уезжали в конце мая, оставалось несколько дней.
Боткин решился. Он выбрал час, когда никого из гостей у Бакуниных не бывало, и, сам не свой, позвонил у подъезда. Едва ступил в коридор, как увидел ее на пороге комнаты, в лучах солнца. И она увидела его.
— Ах!
Она упала мягко, как сноп. Все сбежались, подняли, привели ее в чувство. Боткин держал ее за руку. Она слабо улыбалась. Объяснение произошло само собой.
Посмотрев на них, Мишель засвистел, мрачно усмехнулся и ушел из дома, хлопнув дверью. Он ревновал всех своих сестер, не желая ни с кем делиться их любовью.
С вытянутым лицом madam пригласила в Прямухино и Василия Боткина, купеческого сына.
Verioso узнал обо всем в тот же день. Не верить было невозможно. Три дня он неистовствовал и злословил, ночи напролет носился по улицам, похожий на сумасшедшего, потом вновь испытал сокрушительный припадок чувственности, бледнел, дрожал, трясся в жгучей лихорадке сладострастия, пока вновь не очутился у Никитских ворот. За всем этим последовало отупение и такое отвращение от жизни и самого себя, что от страшных мыслей зашевелились волосы на голове. Чувственность вконец опротивела ему. Апатия придавила холодным камнем. «Зеленый змий» не помогал.
Освобождение наступило к исходу июня. Вдруг, в одночасье. Он очнулся от зыбкого сна на рассвете, ожидая, что терзание, по обыкновению, проснется следом и накинется, подобно когтистому коршуну, на его душу, но ничего не произошло. Он приподнялся на локте, сел, оглянулся. Как легка ему эта комната, как светло на душе! Испытываясь, он вызвал самые едкие воспоминание… Никакой боли.
Белинский понял все. Кликнув мальчишку, он сунул ему записку для Мишеля, назначив свидание в редакции, и помчался легкими шагами.
В редакционных комнатах царила тишина. На столах высились стопы исписанной бумаги, лежали оттиски статей, по углам стояли пачки журнальных книжек, упакованные в грубую затертую бумагу, перевязанную бичевкой.
Мишель не задержался. Они не видались с мая, с того самого дня. Он вошел, высокий, румяный, широкогрудый, с чистыми голубыми глазами, с привычным, незаметным для себя выражением превосходства во всей его фигуре, готовый к размышлениям на любую тему. Наклонившись, поцеловал Виссариона, и уселся на стул, закинув ногу на ногу.
— Рад видеть тебя, Висяша! — произнес он добродушно.
— Весьма рад и я, Мишка, — ясно и смело посмотрел на него Белинский.
Лицо Бакунина приняло озадаченное выражение. Белинский рассмеялся.
— Чудная вещь жизнь человеческая, любезный Мишель! Никогда так не стремилась к ней моя душа и никогда так не ужасалась ее, — он прошелся по комнате, потирая руки, поглядывая на друга, выжидавшего, с какого места нужно вступить в рассуждение. — И хочется жить, и страшно жить, и хочется умереть, и страшно умереть. Могила то манит меня прелестью своего беспробудного покоя, то леденит ужасом своей могильной сырости, своих гробовых червей, ужасным запахом тленья.
Сведя брови, уложив подбородок на огромный кулак и упершись локтем в другой, Бакунин молча следил глазами за шагавшим от стола к столу Verioso. Голос его, голос изменился, стал совсем иным!
— Мишель! — Виссарион остановился прямо перед ним. — Я был, я стонал под твоим авторитетом! Он был тяжел для меня, но и необходим. Я освободился от него нынче утром, то есть, почувствовал свое освобождение. Ты гнетешь чужие самостоятельности.
— Чем же?
— Да всем, всем. В твоем тоне всегда есть нечто кадетское, пренебрежительное. Мишель, мы оба были неправы друг к другу. Мы заглянули в таинственные светильники сокровенной внутренней жизни другого, и заглянули с тем, чтобы плюнуть туда, на этот святой алтарь.
Мишель молчал. При всей искушенности он не находился с ответом.
— Это была болезнь, — продолжал Белинский. — Теперь я здоров. Я позвал тебя с тем, чтобы узнать, здоров ли ты?
— Я? — Бакунин вскинул на него удивленные глаза и пожал плечами. — Здоров, как бык.
(Да понимает ли он, о чем речь?) — мелькнуло у Белинского странное подозрение.
— Кто не уважает чужого самолюбия, — продолжал он, — тот может только осуждать, а не исправлять. Я не щадил твоих ран, я выбирал из них самые глубокие. Мы оба не знали, что такое уважение к чужой личности, что такое деликатность в высшем святом значении этого слова. Я понял, что дружеские отношения не только не отрицают деликатности, но и более, нежели какие-нибудь другие, требуют ее.
Мишель согласно покивал головой. Откинулся, оперся локтями на стол за своей спиной и далеко вытянул ноги.
— А скажи, Висяша… от Сашеньки ты тоже свободен? — в его ухмылке таилась все та же насмешка превосходства.
— Клянусь. Это была натяжка. Теперь я это понимаю. Любовь — это сродство двух душ. Тайна сия велика есть. Встреча с родною душою есть чистейшая случайность. Нашел — твое, не нашел — не взыщи. Пропала у меня охота болтать о любви, допытываться ее значения и путаться в построениях. Ей-богу!
Белинский махнул рукой. Мишель оживился.
— Тогда послушай, как встретили Васеньку в Прямухино. Ха-ха-ха, — Мишель поправился на стуле, чтобы рассказывать с полным удовольствием. — Отец, уже упрежденный матерью, конечно, пригласил его в кабинет, спрашивает, мол, с чем пожаловали, милостивый государь Василий Никанорович? Васенька наш опустил глазки, набрался духу и пролепетал, что, мол, почтительнейше просит руки его младшей дочери Александры Александровны. Люблю, дескать, страстно, до гроба, жить не могу, имею надежду на взаимное чувство…
Белинский напрягся. Вася Боткин, свят человек, стоял перед ним, как живой! Но почему Мишель рассказывает об этом с таким хамским сладострастием?
— Отец усмехнулся, — продолжал Мишель, трогая усики, отпущенные недавно, — и спрашивает невинно, аки агнец. «А чем, позвольте поинтересоваться, жена ваша будет заниматься в вашем доме, сударь? Уж не за прилавком ли стоять?» Васенька наш и так, и эдак, а вразумительного ответа дать не в силах. Тут папенька взял свой итальянский дипломатический тон. Я, говорит, не деспот и не враг дщери своей, (и он прищурился a la Maciavelli), но вот вам мое условие. Не желая ни потворствовать Ромео и Джульетте в их безумстве, ни препятствовать вечной любви, объявляю вам свою волю. Ежели через год чувства ваши сохранят нынешнюю свежесть, мы вернемся к вашему предложению. До тех же пор ни встреч, ни переписки позволено вам не будет. Передайте мой поклон вашему батюшке… С тем наш Васенька и отбыл.