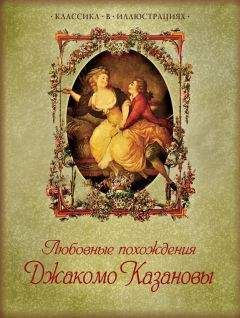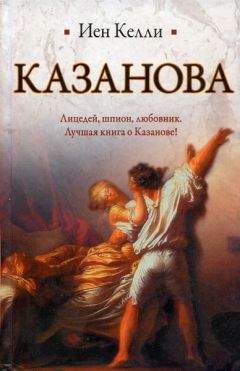Филипп Соллерс - Казанова Великолепный
Свинец? Плюмбум… Почти как Пьомби, та самая знаменитая тюрьма…
«Читатель может мне поверить: все те, кто лишили себя жизни, поступали так, дабы не поддаться безумию, которое иначе сокрушило бы их разум, те же, кто потеряли рассудок, могли бы этого избежать, лишь расставшись с жизнью. Я решился на сию крайнюю меру, ибо день промедления сделал бы из меня сумасшедшего. Такова беспощадная логика. Человек не должен убивать себя — ведь может случиться, что бедствия его прекратятся прежде, нежели наступит безумие. Поэтому счастлив обладающий душою достаточно сильною, чтобы никогда не отчаиваться. Моей не хватило силы, и я счел за лучшее покончить с собой. Случайность спасла меня».
Странный символ веры, признающий обдуманную смерть смертельным же лекарством от безумия.
Но позицию Казановы можно сформулировать иначе: лучше умереть, чем стать бараном. И на это возразить трудно.
Случайность? Скорее судьба. Готовый броситься в воду с Вестминстерского моста и утопиться, Каза встречает вдруг знакомого — «молодого, любезного, богатого, живущего в свое удовольствие англичанина» по имени шевалье Эгард. Господин Эгард! Господи сохрани![42]
По лицу Казановы Эгард почуял неладное. Не желая оставлять приятеля одного, он затащил его поразвлечься в таверну. Казе кусок не лезет в горло, он только глотает устрицы и запивает их белым бордо. Эгард позвал девиц, но и они оставляют Казу безразличным, даже когда начинаются пикантные забавы. «Любовные утехи — не причина, а плод веселья». Один шевалье водит за собой другого по кабакам. В одном из заведений танцы. И, глядь, вальсирует Шарпийон собственной персоной!
С Казой приключается что-то вроде эпилептического припадка:
«Потрясения, которые мне довелось пережить за неполный час, заставили меня опасаться скверных последствий: я дрожал с головы до ног, так что, вздумай я встать из-за стола, вряд ли удержался бы на ногах. Со страхом ждал я конца странного приступа, который, как казалось, мог отправить меня на тот свет».
Умри и восстань. Джакомо вмиг исцелился.
«Что за чудесная перемена! Ко мне вернулись спокойствие и радость, пелена спала с моих глаз, и я устыдился; однако же стыд этот указывал на выздоровление. О, радость! Лишь выйдя из заблуждения, смог я признать его. В потемках ничего не видно! Новое состояние было столь восхитительно, что, не найдя подле себя Эгарда, я уж решил, что он исчез навсегда. Должно быть, думал я, мой добрый гений принял обличье этого юноши, дабы вернуть мне здравый рассудок… Людям нетрудно уверовать в любой вздор. Частица этого суеверия дремлет и во мне, хоть хвалиться тут нечем».
То был еще один побег Джакомо Казановы из «свинцовой» темницы. Бывают тюрьмы в мире внешнем, а бывают — в нашем сознании. Сохранять свободу и истину в душе и теле необычайно трудно.
Каза воскрес, приободрился, настало время отомстить за себя. Он подает жалобу на Шарпийон, ее мать и обеих теток, которые обманом завладели векселями, и их арестовывают. Женский клан предпринимает контратаку: в свою очередь арестован Каза — за то, что якобы грозился изуродовать Шарпийон. Несколько часов проводит он в Ньюгейтской тюрьме, рядом с преступниками и осужденными на смерть. Все же его свидетели более достойны доверия, чем свидетели, которых представила противная сторона. Сладкая месть завершается шуткой.
Каза покупает попугая и учит его произносить: «Мисс Шарпийон — потаскуха почище, чем ее мамаша». Птица выставляется на продажу на лондонской бирже и имеет большой успех. Теперь с него довольно.
И вот мораль — о том, как мало надо доверять «свидетельствам»:
«Ошеломляет легкость, с какою можно подрядить в Лондоне лжесвидетелей. Как-то раз я увидал табличку на окне, на которой крупными буквами написано было одно-единственное слово: „Свидетель“. Сие означало, что здесь живет человек, промышляющий подобным ремеслом».
* * *После таких головоломных приключений и нового, еще более опасного, чем венецианский, побега Каза, естественно, нуждался в разрядке. Тут-то как раз и подвернулись пятеро сестер и их матушка, уроженки Ганновера. Джакомо наконец вкушает отдых под сенью девушек в цвету.
«Мне представлялось, что я люблю не как любовник, а как отец, и то, что я с ними сплю, нисколько не мешало этому чувству, ибо я никогда не мог постичь, как это родитель способен нежно любить свою прелестную дочь, не переспав с нею хотя бы раз. Эта моя непонятливость всегда убеждала меня и сегодня убеждает тем более, что мой дух и моя плоть — единая субстанция. Глаза Габриели[43] говорили, что она меня любит, и я твердо знал, что она не лжет. Неужели же она не питала бы ко мне этой любви, коли обладала бы тем, что именуют добродетелью? Подобная мысль превышает мое разумение».
Если хотите, чтобы женщина любила вас, обращайтесь с нею как с дочерью. Если у вас есть дочь, обойдитесь с ней — хотя бы единожды — как с женщиной. Многим мужчинам не удается стать хорошими отцами своим дочерям — мешает неловкость, которую они ощущали когда-то в общении со своей матерью. А бывают, и нередко, дочери, которых матери ограждают от отцов (возможно, так было с Шарпийон).
Разве все это не очевидно? Нет? Очень жаль. Каза все настойчивее возвращается к этому «непостижимому» (как сам Господь) явлению, весьма хитро обыгрывая словечко «родитель». Он отлично знает, что и как говорит. Настоящая любовь, та, что зачинает и порождает, любовь-родильница и родительница, связывает отца и дочь. В конечном счете ее ребенок — это ребенок ее отца. И у каждой матери был свой отец — удалось ему отцовство или нет.
«Мой дух и моя плоть — единая субстанция» — теория единства мира в предельном выражении. Ее подтверждает философский роман, в который, если смотреть в таком ракурсе, превращается жизнь. Первое «избавление» Казы происходит на физиологическом уровне (от восьмилетнего слабоумия, хронических кровотечений). Второе — на физическом (побег из тюрьмы Пьомби). Третье — на психическом (после того, как он был отвергнут и намеревался покончить с собой). Четвертое же и последнее — на духовном (терапия письмом в больших дозах — сочинение так и не оконченной «Истории моей жизни»).
Заключение, к которому приходит Каза, весьма впечатляющее, но понятно, что принять его можно только в качестве вымысла. Религия времен матриархата (а мы сейчас находимся в его новой, технической фазе) решительно отвергает близость отца с дочерью. Ну а патриархату свойственно усиленное вытеснение отцовско-дочерних отношений, вынужденное необходимостью: мужчины должны обмениваться женщинами во избежание эндогамии. Таким образом обществом, хоть оно того не подозревает, управляет закон мужской гомосексуальности. Однако известно: если узел несколько ослабел снаружи, значит, внутри он только туже затянулся. Как мы помним, Каза — белый маг, мастер развязывать узлы.