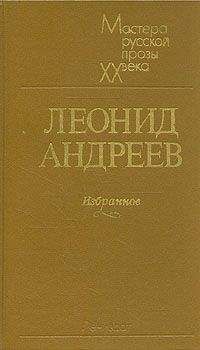Мария Барр - Перечитывая Мастера. Заметки лингвиста на макинтоше
Можно ли утверждать вслед за рядом исследователей, что роман о Понтии Пилате – это «Евангелие от Михаила», «Евангелие от Булгакова»? Нет, потому что человек, решающий художественные, а не богословские задачи, вправе создавать свою художественную реальность. Да, потому что, несомненно, перед нами оригинальное прочтение известных любому человеку событий с оригинальной трактовкой образов.
Афраний и Пилат – искусство диалогаОсобый интерес составляют диалоги ершалаимских глав. Совершенство проработки образов заключается, прежде всего, в речевых характеристиках, особенностях построения диалогов, передающих атмосферу и колорит того времени. Речевой этикет римлян и иудеев, его специфика воспроизведены с удивительной точностью:
1) сюда относятся славословия в честь императора, входящие в тосты и неизменно сопутствующие упоминанию кесаря в диалогической речи: - За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!;
- Ручаться можно, - ласково поглядывая на прокуратора, ответил гость, - лишь за одно в мире – за мощь великого кесаря.
- Да пошлют ему боги долгую жизнь, - тотчас же подхватил Пилат, - и всеобщий мир.
(эти речевые подхваты свидетельствуют не только о стремлении Пилата выразить свою лояльность власти, но и о разработанности этикета, наличии речевых формул соответственно каждой ситуации, развитости речевой культуры римлян)
2) специфика приветствий:
- римское: - Прокуратору здравствовать и радоваться!
- иудейское: - Мир вам!
(совершенно различные ментальные установки как отправные точки в выборе пожеланий: языческое «здравствовать и радоваться» - забота о теле, и духовное и прагматическое - «мир вам»)
Диалоги Пилата с Афранием, самым загадочным героем романа, - верх мастерства. Объем передаваемой в репликах информации кратно превышает тот, что заключен в словах. Искусство намеков, возведенное в высочайшую степень, осторожность и демонстрация власти, и, наконец, прорывающаяся человеческая сущность – раскаяние и осознание непоправимости случившегося выделяют линию Пилата. Это направление развития образа катализируют «странное» поведение и реплики Афрания, безусловно, демонстрирующего свое превосходство в диалогах с Пилатом.
Нужно признать, что диалоги исторических глав значительно сложнее, напряженнее, интереснее и насыщеннее намеками, скрытыми посланиями, борьбой идей, чем в главах, посвященных Москве 30-х. Герои умнее. Собственно, глупых героев в исторической части романа нет. Умен Каиафа, верящий, что спасает народ израильский. Умен Пилат, что было отмечено Иешуа. Несомненно, несомненно, очень умен и хорошо образован Афраний, бесспорно выигрывающий в сравнении с современными деятелями ОГПУ, таскающими котов за передние лапы. Умна его подруга Низа. Умен Иуда. Единственный незадачливый герой, «не усвоивший ничего из того, о чем ему говорил учитель», Левий Матвей, оставивший, однако, «речения» Иешуа, записанные на пергаменте, не умный житейски, умен сердцем, сумевшим угадать учителя...
Перечитывая диалоги Пилата с Афранием, испытываю почти физическое наслаждение. Все вкусно. Каждая фраза – образец диалогического мастерства. Угадывание даже не последующей фразы, а следующего мотива делает позицию Афрания неуязвимой. Уровень взаимопонимания, степень общности апперцепционной базы (общие знания коммуникантов о ситуации общения) таковы, что достаточно намека, причем посылаемого взглядом («метнул взгляд и задержал»), а иногда и намека не требуется, чтобы получить ожидаемое речевое действие или сообщение. Один с легкостью поддерживает и продолжает реплику другого. Практически нет вынужденной передачи репликового хода. Искусство диалога, возведенное в искусство, основанное на умении понимать собеседника на уровне мотивации.
Пилат: Ах, так? Что ж, не выплачивались, стало быть, не выплачивались. Тем труднее будет найти убийц. (Если Каифа отрицает свою связь с Иудой, согласившимся за деньги предать Учителя, он не сможет сформулировать мотив убийства Иуды, и дело можно будет замять).
Афраний: Совершенно верно, прокуратор. (Мы можем не опасаться. Нашу причастность к убийству, установить будет трудно, практически невозможно).
Пилат: Да, Афраний, вот что внезапно пришло мне в голову: не покончил ли он сам с собой? (Необходимо запустить и распространить слух о самоубийстве Иуды. Это лучший способ закрыть дело)
Афраний: О нет, прокуратор, - даже откинувшись от удивления в кресле, ответил Афраний, - простите меня, но это совершенно невероятно! (Слишком неправдоподобно, чтобы этому поверили в Риме. Вы же знаете, сколько жалоб послано будет в Рим Каифой!).
Пилат: Ах, в этом городе все вероятно! Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу. (А в этом доверьтесь мне! Я постараюсь это представить в своих отчетах нужным образом. Правдоподобность слухов меня не волнует. Нужно только торопиться, чтобы это выглядело натурально).
Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил:
- Это может быть, прокуратор. (Хорошо, если вы страхуете меня и если вы приказываете распустить слухи, я согласен. Все, что нужно, будет сделано.)
Поэтому соотношение сказанного и недоговоренного не в пользу сказанного, то есть имплицитная составляющая передаваемой в диалоге информации очень велика. И поэтому же непонятно, кто ведет диалог. Формально - Пилат, но инициатива его минимальна, Афраний ему не дает возможности реализовать в диалоге даже задуманное. Проницательность, предусмотрительность и расторопность Афрания таковы, что все, что приходится делать Пилату, - это только благодарить своего помощника. Личная «заинтересованность» Пилата в этом деле очевидна для Афрания, поэтому придать убийству на почве мести характер политической диверсии – значит получить неограниченный кредит доверия и благодарность Рима в лице игемона, и продвижение по службе в дальнейшем. Умно, ничего не скажешь. И вместе с тем необъяснимая симпатия к одному из осужденных, непринятие мер по отношению к Левию Матвею, нарушившему закон (воровство ножа) и порядок захоронения осужденных на смертную казнь – все это наводит на размышления о двойственности этого человека. Сложнейший характер, не до конца раскрытый в трех диалогах. А кто сказал, что человек прост?
Следует отметить еще одну важнейшую особенность исторического плана повествования, а именно, - постоянное незримое присутствие в ткани повествования Иешуа после казни. Наступило «бессмертие». То есть, «Смерти нет», как записал в Логиях (хартии) Левий Матвей. Буквально. Христос упраздняет смерть. Впервые смерть упраздняется как окончательный финал бытия человека. Душа человеческая бессмертна. Осознать это очень трудно. А это означает, что включается новое представление об ответственности за каждый поступок, за каждое слово, ибо каждый будет помнить о своих проступках и грехах «вечно». Интересно, как это дано в художественном решении.
![Антони МакКартен - Ladies Night [=Только для женщин]](/uploads/posts/books/228760/228760.jpg)