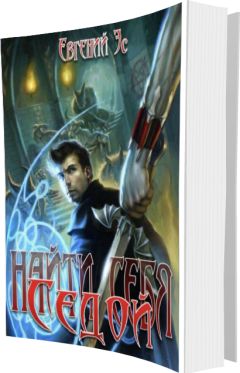Евгений Войскунский - Трудный год на полуострове Ханко
Я торопился «опорожнить» блокнот. И одна мысль не давала мне покоя: успеть бы съездить в 21-й батальон. И не только для того, чтобы повидать ребят, — мне хотелось о них написать. Газете не интересны Агапкин и Рзаев, землекопы, таскальщики носилок? Черта с два! Теперь я кое-что понял. Бесчисленные дзоты и капониры, подземные ангары и склады, подземный госпиталь, подземный командный пункт — вот он, главный фактор неприступности Ханко. Разве не стоит за всем этим невидимый труд землекопа? Разве смогли бы взлетать и садиться герои летчики, если бы ребята из моего батальона не засыпали под постоянным огнем воронки на поле аэродрома? И разве не нашим потом полита железнодорожная ветка под колесами Жилинских транспортеров, несущих главный калибр Гангута — грозные для врага двенадцатидюймовки?
Не безымянные землекопы сделали это! И нечего стыдиться агапкинской лопаты!
Я попросил Лукьянова отпустить меня на день в батальон — в часть майора Банаяна. Лукьянов поднял глаза от макета очередного номера:
— А с десантниками — все у тебя?
— Еще нет, но я успею, Константин Лукич.
— Заканчивай плановый материал, а потом посмотрим. — Он закурил и снова углубился в макет.
А когда я наконец «отписался», навалились новые срочные задания, и так я и не выбрался в свой батальон. Так и не выбрался. А оставались уже считанные дни…
В последних номерах «Красного Гангута» прошло еще несколько моих корреспонденции об островитянах, в том числе и очерк о храбром плотовщике Василии Буянове.
Сравнительно недавно мне довелось перечесть его, и я ужаснулся возвышенности собственного стиля (простительной, как я надеюсь, для моих тогдашних девятнадцати лет).
Этот очерк о Буянове спустя более четверти века как бы получил неожиданное продолжение. Летом 1968 года Владимир Александрович Рудный, которому до сих пор пишут десятки ветеранов Гангута, получил письмо от незнакомой учительницы из Куйбышева. В письме шла речь о бедственном положении ее соседа — инвалида войны, которому никак не оформят пенсию из-за нехватки документов, подтверждающих службу в армии, Это был Василий Буянов. Учительница знала с его слов, что он воевал на Ханко, и знала, что Рудный пишет о гангутцах. Словом, она обратилась по правильному адресу. Надо ли говорить, что мы сделали все возможное, чтобы помочь — через посредство «Правды» — Буянову. Пенсию ему назначили. Документом, подтверждающим его участие в обороне Ханко (и, следовательно, военную службу), послужила одна из книг Рудного, в которой приводится тот самый эпизод с плотом из старого моего очерка…
Но судьбы гангутцев — материал для особой книги (и это была бы, я убежден, книга интересная и поучительная). Здесь же я только вспоминаю свою жизнь на Ханко и людей, с которыми встречался. Это — записки рядового, и ни на что большее они не претендуют.
* * *1 декабря вышел последний номер «Красного Гангута». Накануне редактор поручил мне написать передовую — название ее говорило само за себя: «Мы еще вернемся!» Над разворотом шла огромная шапка: «Мы уходим бить немецко-фашистскую сволочь и будем бить ее по-гангутски»! На видном месте было заверстано прощальное стихотворение Дудина. Вот две строфы из него:
Не взяли нас ни сталью, ни огнем,
Ни с воздуха, ни с суши и ни с моря.
Мы по земле, растоптанной пройдем,
В других местах, с другим врагом поспоря…
Такие не боятся и не гнутся.
Так снова в бой и снова так дерись,
Чтоб слово, нас связавшее, — гангутцы —
На всех фронтах нам было как девиз.
Тираж последнего номера был отпечатан намного больше обычного, потому что часть его предназначалась финнам. Нам дали грузовик, и мы — Пророков, Дудин, Шпульников и я — медленно проехали по улицам городка, оставляя газеты в уцелевших домах, наклеивая всюду, куда попало, листовки. Затем машина выехала за переезд, помчалась по дороге, такой знакомой мне дороге, и всюду мы разбрасывали газеты и листовки.
Справа лес расступился, открылась поляна — та самая, которую мы, молодое пополнение, столь усердно утаптывали год назад. Здесь старший сержант Васильченко учил нас ходить, и поворачиваться, и отдавать честь, здесь он выкрикивал параграфы воинских уставов. Поляну теперь покрывал снежный наст, а дальше — дальше стоял, утонув почти по крышу в сугробах, наш темно-красный сарай, теплая наша казарма. Не валил, как прежде, дым из ее трубы, и некому теперь было расчистить снег вокруг — некому, да и не надо.
Машина повернула обратно, лишь немного не доехав до лесочка, на опушке которого стояла среди берез и сосен белая кирха, бывший клуб 21-го батальона.
Прощай, кирха, жаль, что не увидел тебя напоследок!
Прощай и ты, дорога, не забывай меня!
Прощай, Ханко!..
Прощальным салютом был ураганный огонь гангутских батарей. Под грохот канонады артиллеристы взрывали одно за другим тяжелые орудия, которые невозможно было вывезти на Большую землю. Страшная работа уничтожения шла и в порту: разогнав, сталкивали в воду автомашины, паровозы, вагоны, платформы…
Нашей боевой техникой были наборные кассы и печатная машина. Шрифт наборщики упаковали в пакеты, и каждый из работников редакции и типографии получил по два таких пакета, отчего вещмешки и чемоданы стали свинцово-тяжелыми в полном смысле слова.
Печатную машину взорвали, бросив связку гранат.
Сборы закончены, оставалось только ждать погрузки. Мы сидели на мешках и чемоданах в штабном дворе. Странно было видеть наших наборщиков ничем не занятыми. Печатник Костя Белов, необычно возбужденный, снова и снова принимался рассказывать, как погибла печатная машина (не сразу удалось ее взорвать), и было видно, что он с трудом удерживается от слез. Кандеров хмуро слушал его, а может, не слушал, думал о своем. Неторопливо покуривали наборщики — Пименов, Ясеновый, Малахов, Федотов, Шохин, Гончаренко, Самохин, Еременко. Веселый ленинградец Федотов сегодня никого не подначивает, помалкивает. Не слышно мелко-рассыпчатого смеха маленького улыбчивого Еременко, мужичка с ноготок. Лица у наборщиков бледные с желтизной. Им редко удавалось видеть дневной свет. Подвал наборного цеха отпускал их только для еды и сна.
Но вот пришла машина. Последний взгляд на черный проем двери, ведущей в редакционный подвал… Всё. Поехали!..
В порту мы погрузились на тральщик, уже набитый другими группами гангутцев. Спустя час или два тральщик пошел на рейд, где стояли на якорях крупное транспортное судно и корабли конвоя — эсминцы, тральщики, торпедные катера. Снова ожидание у высокого борта транспорта. Это был красавец турбоэлектроход довоенной амстердамской постройки — «И. Сталин». Война перекрасила его нарядные белоснежные борта и надстройки в строгий серо-стальной цвет, переименовала в военный транспорт номер такой-то, послала в опасный рейс по кишащему минами Финскому заливу.