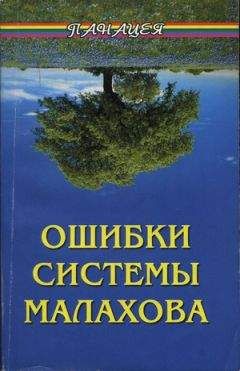Федор Шаляпин - Маска и душа
Онъ выпучилъ на меня глаза и потомъ попросилъ разрѣшенiя еще разъ сыграть эту вѣщь для себя самого. Углубившись, онъ игралъ и слушалъ себя, а сыгравъ, смущенно сказалъ:
— Вѣрно, во всякомъ случаѣ это весна, и весна русская, — а не гибралтарская…
Это я къ тому разсказываю, что сплошь и рядомъ композиторъ поетъ мнѣ какого нибудь своего персонажа, а въ музыкѣ, которая сама по себѣ хороша, этого персонажа нѣтъ, а если и есть, то представленъ онъ только внѣшнимъ образомъ. Дѣйствiе одно, а музыка — другое. Если на сценѣ драка, то въ оркестрѣ много шуму, а драки нѣтъ, нѣтъ атмосферы драки, не разсказано музыкой, почему герой рѣшился на такую крайнюю мѣру, какъ драка…
Мусоргскiй же, какъ композиторъ, такъ видитъ и слышитъ всѣ запахи даннаго сада, данной корчмы и такъ сильно и убѣдительно о нихъ разсказываетъ, что и публика начинаетъ эти запахи слышать и чувствовать…
Реализмъ это, конечно. Но реализмъ вотъ какого сорта. Русскiе мужики берутъ простыя бревна, берутъ простые топоры (другихъ инструментовъ у нихъ нѣтъ) и строятъ храмъ. Но этими топорами они вырубаютъ такiя кружева, что не снились тончайшимъ инкрустаторамъ.
42Есть иногда въ русскихъ людяхъ такая неодолимая физическая застѣнчивость, которая вызываетъ во мнѣ глубокую обиду, несмотря на то, что она бываетъ и трогательна. Обидна она тѣмъ, что въ самой глубокой своей основѣ она отраженiе, вѣрнѣе, отслоенiе нашего долгаго рабства. Гляжу на европейцевъ и завидую имъ — какая свобода и непринужденность жеста, какая легкость слова! Не всегда и не у всѣхъ это свобода и легкость высокаго стиля, но все же чувствую я въ нихъ какое то утвержденiе европейцемъ своей личности, своего неотъемлемаго достоинства. Есть въ этомъ и наслѣдiе большой пластической культуры Запада. А вотъ русскiй человѣкъ, поди, душа у него свободнѣе вѣтра, въ мозгу у него — орлы, въ сердце — соловьи поютъ, а въ салоне непременно опрокинетъ стулъ, прольетъ чай, споткнется. Дать ему на какомъ нибудь банкетѣ слово — смутится, двухъ словъ не свяжетъ и замолкнетъ, сконфуженный. Повторяю, это отъ того, по всей вѣроятности, что слишкомъ долго русскiй человѣкъ ходилъ подъ грознымъ окомъ не то царя, въ качестве боярина, не то помещика, въ качестве раба, не то городничаго, въ качестве «подданнаго». Слишкомъ часто ему говорили: «молчать, тебя не спрашиваютъ»…
Ведь, несомненно изъ-за этой застенчивости величайшiй русскiй волшебникъ звука — Н.А.Римскiй-Корсаковъ, какъ дирижеръ, иногда проваливалъ то, чѣмъ дирижировалъ. Угловато выходилъ, сконфуженно поднималъ палочку и махалъ ею робко, какъ бы извиняясь за свое существованiе…
Въ Римскомъ-Корсаковѣ, какъ композиторѣ, поражаетъ, прежде всего, художественный аристократизмъ. Богатѣйшiй лирикъ, онъ благородно сдержанъ въ выраженiи чувства, и это качество придаетъ такую тонкую прелесть его творенiямъ. Мою мысль я лучше всего смогу выразить примѣромъ. Замѣчательный русскiй композиторъ, всѣмъ намъ дорогой П.И.Чайковскiй, когда говорилъ въ музыке грустно, всегда высказывалъ какую то персональную жалобу, будетъ ли это въ романсѣ или въ симфонической поэмѣ. (Оставляю въ стороне нейтральныя произведенiя — «Евгенiй Онѣгинъ», балеты). Вотъ, друзья мои, жизнь тяжела, любовь умерла, листья поблекли, болезни, старость пришла. Конечно, печаль законная, человѣчная. Но все же музыку это мельчитъ. Ведь, и у Бетховена бываетъ грустно, но грусть его въ такихъ пространствахъ, гдѣ все какъ будто есть, но ничего предметнаго не видно; уцѣпиться не за что, а всетаки есть. Вѣдь, падая, за звѣзду не ухватишься, но она есть. Взять у Чайковскаго хотя бы шестую симфонiю — прекрасная, но въ ней чувствуется личная слеза композитора… Тяжело ложится эта искренняя, соленая слеза на душу слушателя…
Иная грусть у Римскаго-Корсакова, — она ложится на душу радостнымъ чувствомъ. Въ этой печали не чувствуется ничего личнаго — высоко, въ лазурныхъ высотахъ грустить Римскiй-Корсаковъ. Его знаменитый романсъ на слова Пушкина «На холмахъ Грузiи» имѣетъ для композитора смыслъ почти эпиграфа ко всѣмъ его творенiямъ.
«Мнѣ грустно и легко: печаль моя свѣтла…
…Унынья моего
Ничто не мучитъ, не тревожитъ».
Дѣйствительно, это «унынье» въ тѣхъ самыхъ пространствахъ, о которыхъ я упоминалъ въ связи съ Бетховеномъ.
Большой русскiй драматургъ А.Островскiй, отрѣшившись отъ своихъ бытовыхъ тяготенiй, вышелъ на опушку леса сыграть на самодельной свирели человѣческiй приветъ заходящему солнцу: написалъ «Снегурочку». Съ какой свѣтлой, дѣйствительно, прозрачной наивностью звучитъ эта свирѣль у Римскаго-Корсакова! А въ симфонiяхъ?! Раздаются аккорды пасхальной увертюры, оркестръ играетъ «да воскреснетъ Богъ», и благовѣстно, какъ въ пасхальную заутреню, радостнымъ умиленiемъ наполняетъ вамъ душу этотъ въ жизни странно-сумрачный, рѣдко смѣющiйся, мало разговорчивый и застенчивый Римскiй-Корсаковъ…
Кто слышалъ «Градъ Китежъ», не могъ не почувствовать изумительную поэтическую силу и прозрачность композитора. Когда я слушалъ Китежъ въ первый разъ, представилась картина, наполнившая радостью мое сердце. Мнѣ представилось человѣчество, все человѣчество, мертвое и живое, стоящее на какой то таинственной планетѣ. Въ темнотѣ — съ богатырями, съ рыцарями, съ королями, съ царями, съ первосвященниками и съ несмѣтной своей людской громадой… И изъ этой тьмы взоры ихъ устремлены на линiю горизонта, — торжественные, спокойные, увѣренные, они ждутъ восхода свѣтила. И вь стройной гармонiи мертвые и живые поютъ еще до сихъ поръ никому неведомую, но нужную молитву… Эта молитва въ душѣ Римскаго-Корсакова.
43Въ отличiе отъ Москвы, гдѣ жизни давали тонъ культурное купечество и интеллигенцiя, тонъ Петербургу давалъ, конечно, дворъ, а затѣмъ аристократiя и крупная бюрократiя. Какъ и въ Москвѣ, я съ «обществомъ» сталкивался мало, но положенiе виднаго пѣвца Императорской сцены время отъ времени ставило меня въ необходимость принимать приглашенiя на вечера и рауты большого свѣта.
Высокiе «антрепренеры» Императорскихъ театровъ, въ общемъ, очень мало удѣляли имъ личнаго внимания. Интересовалась сценой Екатерина Великая, но ея отношенiе къ столичному театру было приблизительно такое же, какое было, вѣроятно, у помѣщика къ своему деревенскому театру, построенному для забавы съ участiемъ въ немъ крѣпостныхъ людей. Едва ли интересовался театромъ Императоръ Александръ I. Его вниманiе было слишкомъ поглощено театромъ военныхъ дѣйствiй, на которомъ выступалъ величайшiй изъ актеровъ своего времени — Наполеонъ…