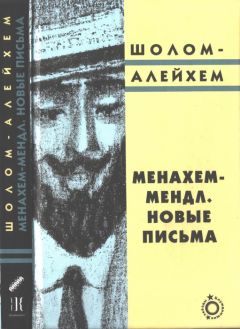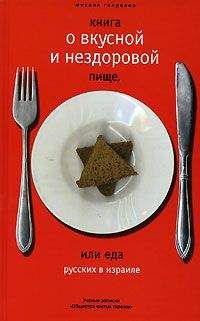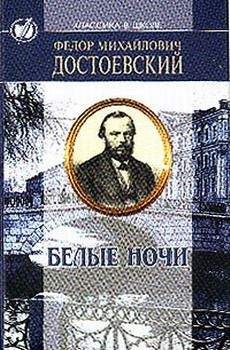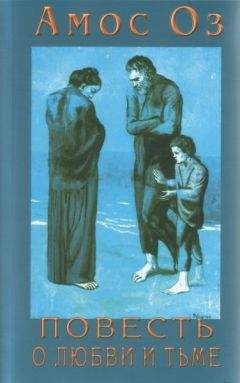Менахем Бегин - В белые ночи
Мы продолжали обмениваться догадками и предположениями, пока в запертый вагон бурей не ворвалась новость: война! Как удалось этой новости проникнуть в изолированный от внешнего мира тюремный поезд? Может быть, охранник шепнул заключенному — раздатчику пищи? А может быть, машинист, часто обстукивавший колеса длинным молотком, кому-то что-то сказал? Источник сообщения установить не удалось, но стало ясно, что вот уже несколько дней мы откатываемся назад от германских армий, наступающих, несмотря на «кровный союз» и вопреки заявлению ТАСС.
Известие о вторжении германских войск вызвало в нашем вагоне не только волнение, но и ожесточенные споры. В вагоне были поляки, литовцы и один еврей. Взаимную ненависть литовцев и поляков (в основном — из-за Вильнюса) даже тюрьма не в состоянии была смягчить; и в Лукишках, и в поезде между ними происходили беспрерывные столкновения. Но поляки и литовцы были едины в мнении, что их товарищам, оставшимся в Лукишках, повезло, а сами они упустили подходящий момент. «Ах, — вздыхали мои соседи по вагону, — если бы нас еще несколько недель продержали в Вильнюсе!» Больше всех сокрушались литовцы: они не воевали против немцев и ждали их прихода.
Известие о войне между Россией и Германией, находившейся в состоянии войны против Англии — союзницы Польши, естественным образом воодушевило поляков. Один из них (не из нашего вагона) зашел слишком далеко в выражении вспыхнувшей самоуверенности. Его за что-то посадили в карцер (да, и в тюрьме на колесах имеется карцер), и оттуда доносились его крики:
— Я польский офицер, кого вы держите в карцере?
И мы услышали ответ солдата НКВД:
— Польский офицер? Польских офицеров мы сажаем в уборные!
Оба они предвосхитили подписание советско-польского договора.
Однажды поезд сильно притормозил, и по обе стороны полотна мы увидели окопы и людей в лохмотьях. Вдруг послышалась знакомая речь:
— Из Польши?
— Да, да, — ответили шепотом поляки. Нам строго-настрого запрещалось разговаривать с людьми не из поезда, и нарушение запрета наказывалось карцером.
— Вильнюс уже у них, и они идут, как нож сквозь масло, — успел прошептать поляк из вырытой траншеи.
Взволнованные происходящими событиями, голодные более чем когда-либо в Лукишках, грязные более чем когда-либо в жизни, мы прибыли в Котлас. За все время пути охранники и раздатчики пищи отказывались сообщать названия станций, которые мы проезжали. Но прибытие в Котлас от нас не скрыли, и это дало нам еще большее основание считать, что Котлас — конечная станция и здесь мы начнем «новую жизнь».
Мы ошиблись. Из всех арестантов в Котласе сняли одного — старого полковника. В Котласе он и умер.
Мы продолжали путь. Поезд трясло, как корабль в бурю. Такой тряски до сих пор не было, многие заболели морской болезнью. Все были обессилены. Прекратились разговоры. Один вопрос висел над вагонзаком: «Куда? Куда они нас везут?»
Однажды вечером мы готовились ко сну. Не знали, разумеется, который час, но приученные распорядком в Лукишках, мы чувствовали, что близится время сна. Почему-то не темнело. В запертом вагоне никогда не было светло, но заключенные, лежавшие у окошек, обратили внимание на странное явление: снаружи было светло и даже сумерек не чувствовалось. Мы продолжали дремать, так и не пожелав друг другу спокойной ночи. Через некоторое время я проснулся и посмотрел в окошко: светло, светло как днем. Какой длинный день! Снова задремал. Когда проснулся, снаружи все еще было светло. Какой длинный день!!
В тот же день (или назавтра утром) загадка разрешилась. Один из раздатчиков спокойно сказал:
— Мы прибыли в полосу белых ночей.
— Так далеко забрались на север? — спросили мы с удивлением и страхом.
— Да, — ответил он. — Мы на севере.
На севере! Летом солнце восходит здесь в момент заката. Какой вид! Какая красота! Какая жуткая красота!..
— Вот это парадокс! — сказал один из заключенных. — Черные дни и белые ночи…
Через несколько удлинившихся вдвое дней пути нам наконец приказали выйти из вагонов. Стояли в открытом поле. Кругом болота. Видны редкие кустарники и низкорослые деревья. Станция называлась Кожва. Над деревянным бараком, служившим чем-то вроде вокзала, надпись: «Народный Комиссариат Внутренних дел». Значит, железная дорога к северу от Котласа принадлежит НКВД, а не министерству путей сообщения.
С узлами за спиной, в сопровождении вооруженного конвоя и скалящих белые клыки собак, мы немного отошли от железнодорожного полотна и по приказу присели отдохнуть. Глаза тут же принялись блуждать в поисках знакомых и со всех сторон послышались слова приветствия. Я увидел Шехтера, Шескина и Кароля. Несмотря на строгий запрет, мы начали, по примеру многих других заключенных, медленно продвигаться навстречу друг другу. В этих неописуемых условиях мне удалось обменяться несколькими словами с доктором Шехтером. Конвойный угрожающим тоном приказал нам вернуться на свои места, но, прощаясь — тогда я не знал, что мы расстаемся на целых девять лет, — я успел сообщить Шехтеру содержание письма в мыле и сказать, что мы увидимся в Эрец Исраэль.
Резкий свист прорезал воздух. Нам приказали построиться в колонну по четыре. Офицер энкаведист произнес традиционное короткое предупреждение: «Вы идете в пересыльный лагерь. Соблюдайте порядок в рядах. Шаг вправо или шаг влево рассматривается как побег, и конвой имеет право стрелять без предупреждения!»
Длинная колонна тронулась. Мы тащили узлы и едва волочили ноги. Долог путь в пересыльный лагерь. Месили грязь по размокшей дороге, порой перебирались по мосткам шириной в бревно, не всегда могли мы соблюдать порядок в шеренгах и рядах. Хуже всего приходилось крайним. Они помнили предупреждение «шаг вправо, шаг влево» и при чуть заметном расстройстве шеренги на повороте извилистой дороги кричали: «Я вынужден отойти вправо, я вынужден отойти влево».
Время от времени я оглядывался. За мной двигались ряды кандидатов на «перевоспитание». Масса народу. Все согнулись под тяжестью узлов, у многих от усталости подкашивались ноги. Кругом винтовки со штыками, взведены курки. Остервенело лают собаки. «Шаг вправо, шаг влево…». В шеренге врачи, инженеры, адвокаты, профессора, рабочие, судьи, офицеры. Такой парад в двадцатом веке! Парад рабов.
Со мной заговорил солдат конвоя.
— Сколько тебе дали? — спросил он.
— Восемь лет.
— За что?
— Пятьдесят восьмая.
— Плохо дело.
— Нам в Вильнюсе сказали, что, если будем работать хорошо, выйдем досрочно.
— Отсюда не выходят.