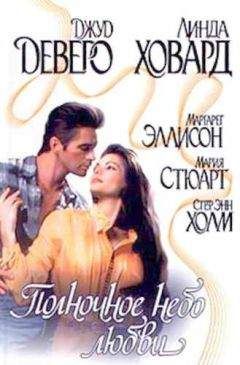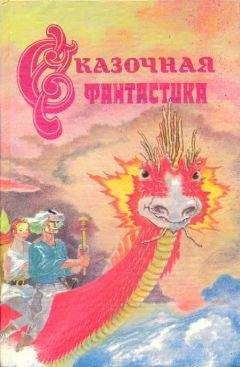Захар Прилепин - Леонид Леонов. "Игра его была огромна"
Так начиналась революция, и комментировать тут что-либо бессмысленно: всё прозрачно.
«Матросы потом какие-то приезжали производить муть. Хрыщ, как начальник гогулёвской милиции, ходил к ним ночью и пробовал уговаривать чуть не на коленях, чтоб без греха уезжали. Но они его вышибли…»
«…Полагаю, однако, что когда Помпея и Геркулес погибали в извержениях Везувия, была у них на улицах такая же муть, а в квартирах ровным счётом недоразумение», — размышляет Ковякин.
«…Чёртогон начался какой-то», — пишет Ковякин, и не ясно до конца, — то ли старых чертей разгоняют, то ли новые пришли и устроили переполох в человечестве.
Предчувствуя ещё больший мрак и ужас, Ковякин в начале ноября 1917 года, за несколько дней до революционного переворота, пишет письмо губернатору, в юродстве своём неожиданно произнося вещи самые важные: «…И вообще не смейтесь над Гогулёвым, ваше превосходительство: смехи слезами запиваются, а слезинки заедаются человечинкой. Петля выходит. Но вы не обижайтесь и не отчаивайтесь: всякое дело поправимо, окромя крови. Пролитой крови, уж извините, в жилы не вернуть».
Это и есть завещание маленького человека большим временам.
Убегая от подступающей нови, Ковякин идёт за правдой к монаху Феофану. Но монах теперь обитает на дереве и кукарекает в ответ на человеческую речь.
«Феофан… просвет где?!» — кричит ему Ковякин несколько раз, но монах молчит и дрожит всем телом.
«И не понимая Феофанова молчанья, — пишет Ковякин, — сажусь я на пенёк, гляжу в землю и начинаю плакать. Не могу удержаться, льюсь слезами без истока. И сладки мне были горшие полыни глупые слёзы мои по уходящей гогулёвской старине!..»
Плачет Ковякин не только по разрушенной вдребезги старине Гогулёва, но и по судьбе человека вообще.
Собравшись, Ковякин неожиданно покидает Гогулёв, и по первоначальному замыслу Леонова он и должен был объявиться в «Барсуках» в качестве предводителя восставшего мужичья. Но Ковякин к такому делу, после всех его прозрений, был явно непригоден.
Да и сама интонация «Записей…» роману никак не подходила. Тут нужны были другое дыхание, иная тональность.
Леонов это вскоре понял.
Воры и гусаки
Читая «Барсуков», порой не можешь избавиться от ощущения, что не молодой Леонов вытягивает этот роман, а сама тема, сдвинутая крепким, дерзким писателем с места, понемногу повлекла, потащила его за собой. Так случается, если первое усилие было приложено верно: дальше тебе диктуют и надо лишь поспевать за голосом.
Повествование начинается с приезда торгаша Егора Брыкина из Москвы в родную деревню — он собрался жениться.
Брыкин поначалу заявлен как один из центральных героев, и, насколько известно, это отвечало первоначальному замыслу книги. Но потом, оттеснённый другими, куда более важными лицами, Брыкин из вида пропадает на добрую половину повествования.
В центр романа выводятся два малолетних брата, которых Брыкин, после состоявшейся свадьбы, привёз из деревни в Москву на заработки.
Пышнотелая Москва позволяет эпическому дару Леонова развернуться: он селит молодых братьев в Зарядье, где вырос сам и которое нежно любил.
Братья работают в доме лавочника на побегушках; одного брата зовут Семёном, другого — Павлом.
Семён — чувствительный, немного по-деревенски неловкий, но внимательный к миру, постепенно, понемногу набирающий древнюю, непокорную, мужицкую силу. Он станет бунтарём, выберет путь, поперечный новой власти.
Павел — нелюдимый, тяжёлый или, как Леонов говорит, — «камнеобразный». Людям он не очень нравится. «Пашка глядел на мир исподлобья, и мир молчаньем отвечал ему». Ему впоследствии и выпадет стать большевиком, к финалу книги.
Ещё в деревне, когда он не углядел за коровами и скотина потравилась, Пашку начали бить сельчане смертным боем, но мальчик «молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою обиду». С самого детства, заметим, складывается у Павла отсутствие взаимного понимания с природой: и дурной травы он не видит, и животину не бережёт.
Разругавшись с хозяином зарядьевской лавки, озлобленный, уходит Пашка из дома и пропадает чуть ли не до последних страниц романа.
Первую часть книги «везёт» на себе Семён. Леонов подмечает, что Семён «не особенно огорчился безвестным отсутствием брата. Павел служил Сене постоянным напоминанием о некоей скорбной посюсторонней черте человеческого существования: одна земная юдоль безо всяких небес. Крутая, всегда напряжённая, неукротимая воля Павла перестала угнетать его, — жизнь без Павла стала ему легче».
Мы цитируем этот отрывок по одному из первых изданий «Барсуков». Впоследствии Леонид Леонов вырежет второе предложение в приведённом выше абзаце: исчезнет важная фраза о земной Павловой юдоли, лишённой небес. Предположение о том, что Леонов пошёл на эту поправку, смягчая безбожный образ Павла, скорее всего, неверно. Дело в том, что и Семён живёт земной суетной жизнью, не особо оглядываясь на небеса, посему и огорчить этой своей чертой Павел брата не мог.
Зато в новом варианте романа Леонов делает важное исправление: вместо «крутой, всегда напряжённой воли» он пишет: «крутая, всегда подчиняющая». Именно что подчиняющая, стремящаяся задавить любым способом.
Павел, к слову, с детства хромой, и это ещё одна классическая леоновская каверза: стремление всегда наделить большевика и физическим недостатком, и неким душевным разладом.
Незадолго до революции братья встретятся, и безо всяких на то причин полувраждебно настроенный к младшему брату Павел произнесёт несколько важных вещей.
Выяснится, что работает он теперь на заводе.
«Там глядеть да глядеть надо! Там при мне одного на вал намотало, весь потолок в крови был!» — так рассказывает Павел; Леонов замечает, что голос Павла дрожит «от гордости своим заводом и всем, что в нём: кровь на потолке, гремящие и цепкие станки, бешено летящие приводы».
«Я вот, знаешь, очень полюбил смотреть, как железо точат, — говорит Павел. — Знаешь, Сенька, оно иной раз так заскрипит, что зубам больно… Стою и смотрю, сперва по три часа простаивал как-то, не мог отойти».
И здесь становится понятно, что в жутком визге стачиваемое железо — это и есть метафора не только характера Павла, но и всей грядущей революции.
Незадолго до начала Первой мировой выросший в знатного парня Семён влюбляется в дочку местного лавочника Секретова; звать дочку Настей. Но отец попытается выдать её за другого, и любовь Сёмы и Насти разладится.