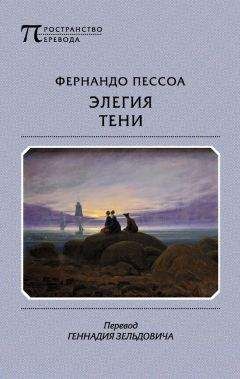Фернандо Пессоа - Книга непокоя
Правление основано на двух вещах: обуздании и обмане. Однако эти понятия не обуздывают и не обманывают, и в этом их зло. Опьяняют, когда их много, и это – другое.
Кого я ненавижу, так это реформаторов. Реформатор – это человек, видящий поверхностное зло мира и вызывающийся исцелить его, ухудшая положение со злом фундаментальным. Медик пытается сделать больное тело здоровым; но в социальной жизни мы не знаем, что́ есть больное или здоровое.
Не могу считать человечество ничем иным, как только одной из последних школ в истории живописи Природы. Я, как правило, не отличаю человека от дерева; и, естественно, предпочитаю то, что более интересно для моих мыслящих глаз. Если дерево меня интересует больше, то срубленное дерево меня огорчает более, чем умерший человек. Закаты ранят меня сильнее, чем смерть ребенка. Я – во всем, что не чувствует, для того, чтобы чувствовать.
Я чувствую себя виноватым в том, что записываю эти промежуточные размышления в час, когда границы вечера поднимает, окрашиваясь, легкий бриз. Нет, не окрашиваясь, ведь это не он окрашивается, а воздух, в котором он колеблется; но раз мне кажется, что окрашивается именно он, я так и говорю, ведь решимость говорить о том, что мне кажется, и свидетельствует, что это я.
Все неприятное, что происходит с нами в жизни, – смешные роли, что нам приходится играть, дурные поступки, ошибки, прегрешения против добродетелей – должно быть расценено как обычные случайности, неспособные коснуться струн души. Нам следует принимать их как зубную боль или мозоли, вещи, досаждающие лишь нашему телу.
Научившись такому восприятию, близкому к восприятию мистиков, мы оказываемся защищенными не только от мира, но и от нас самих, ведь мы побеждаем в себе внешнее, чуждое и, тем самым, враждебное.
Настоящий храбрец, сказал Гораций, неустрашим, даже если весь мир вокруг него рушится. Изображение абсурдно, настоящее – его смысл. Хотя бы вокруг нас рушилось то, чем мы притворялись, сосуществуя с другими, мы должны оставаться бесстрашными – не потому, чтобы были настоящими, но потому что это мы, и, будучи собой, ни о чем не должны сожалеть из того внешнего, что разрушается.
Жизнь должна быть для лучших из нас мечтой, которая отвергает сопоставления.
Прямой опыт – увертка или убежище лишенных воображения. Читая о риске, ожидающем охотника на тигров, подвергаю себя всем рискам, каким стоит подвергаться, исключая тот, какому подвергать себя не стоило.
Люди действия – невольные рабы людей понимания. Вещи не имеют значения, кроме как в их собственном толковании. Поэтому одни создают вещи, чтобы другие, превращая их в смыслы, давали бы им жизнь. Рассказывать – значит создавать, поэтому жить – это только «быть кем-то проживаемым».
Бездействие утешает во всем. Не действовать – дарует нам все. Воображать – все, поскольку нет стремления к действию. Никто не может быть королем мира, кроме как в мечтах. И каждый из нас, если действительно себя знает, хочет быть королем мира.
Не быть, размышляя, – это престол. Не хотеть, желая, – это корона. Мы имеем то, от чего отрекаемся, потому что это мы храним в мечтах, неприкосновенным, освещенным солнцем, которого нет, или луной, которой не может быть.
Все, что не есть моя душа, – это для меня, как бы я ни сопротивлялся, не более чем сценарий и декорации. Человек, хотя бы я и сознавал, что он – живое существо, как и я, всегда имеет для меня совершенно меньшее значение, чем дерево, если дерево красивее его. Поэтому человеческие движения – великие коллективные трагедии – всегда представлялись мне цветными фризами, лишенными души. Меня совсем не огорчила трагедия, случившаяся в Китае. Это далекая декорация, пусть там и лилась кровь.
Вспоминаю с грустной иронией демонстрацию рабочих, проведенную, вероятно, совершенно искренне (хотя мне всегда нелегко признавать искренними коллективные действия, ввиду того что лишь индивид наедине с собой – чувствующее существо). Это была сплоченная и свободная группа оживленных глупцов, что прошла, выкрикивая различные лозунги перед моим равнодушием к чужому. И я вдруг почувствовал тошноту. Те, кто страдает по-настоящему, не составляют плебс, не сбиваются в группы. Кто страдает, страдает один.
Какое мерзкое сборище! Какое отсутствие человечности и настоящей боли! Они были реальны и поэтому немыслимы. Никто не списал бы с них сцену для романа, сценарий для пьесы. Они прошли, как плывет мусор по реке, по реке жизни. Я их видел в тошнотворном и божественном сне.
Если я внимательно раздумываю над жизнью, которой живут люди, то не нахожу в ней ничего отличного от жизни животных. И те и другие посвящены полностью вещам и миру; те и другие развлекаются – с перерывами; те и другие проходят день за днем обычный путь любой органики; те и другие не выходят за рамки собственного мышления, за грань собственной жизни. Кот перекатывается на солнышке и дремлет там. Человек катится по жизни со всеми своими сложностями и дремлет там. Ни один, ни другой не освобождается от рокового обязательства быть тем, кто он есть. Ни один не пытается поднять тяжесть существования. Величайшие люди любят славу, но любят ее не как собственное бессмертие, а лишь как бессмертие абстрактное, в котором, скорее всего, не участвуют.
Подобные размышления заставляют порой меня восхищаться той разновидностью индивидов, к которой я испытываю инстинктивное отвращение. Обращаюсь к мистикам и аскетам – к монахам всех Тибетов, к Симеонам Столпникам со всех столпов. Эти, пусть и нелепым способом, действительно пытались освободиться от закона, общего для человека и животного. Эти, пусть и смехотворно, на самом деле пытались отрицать закон жизни – нежиться на солнце и ожидать смерти, не думая о ней. Они стремятся даже в неподвижности на столпе; стремятся, ищут даже в темноте кельи; хотят того, чего не знают, хотя бы в мученичестве, им данном, и в печали, им предписанной.
Мы, все остальные, ведущие животную жизнь с ее сложностями, пересекаем сцену, как статисты, наслаждаясь бездумной торжественностью своего прохода. Собаки и люди, коты и герои, блохи и гении – мы играем в существование, не думая о нем (ведь и лучшие мыслят только о размышлениях) под великим покоем звездного неба. Другие – мистики страшных времен и жертвенности – чувствуют, по крайней мере всем телом, повседневно, присутствие таинства. Они свободны, потому что отвергают видимое солнце; они полны, потому что освободились от пустоты мира.
Говоря о них, я сам становлюсь почти мистиком, но неспособен стать чем-то большим, чем эти слова, написанные по случайной склонности. Я всегда буду принадлежать улице Золотильщиков, как и все человечество. Буду всегда – в стихах или прозе – служащим за письменным столом. Буду всегда, в мистическом или в не мистическом, ограниченный и покорный, рабом своих ощущений и часа, когда их испытываю. Буду всегда, под огромным синим балдахином немого неба, – пажом, участвующим в непонятном обряде; жизнь дала мне одежды, чтобы я мог исполнить этот обряд, и я делаю, не зная зачем, жесты и шаги, принимаю соответствующую осанку и манеры, до тех пор пока праздник закончится или закончится моя роль в нем, и я смогу пойти на праздничный ужин в больших палатках в глубине сада.