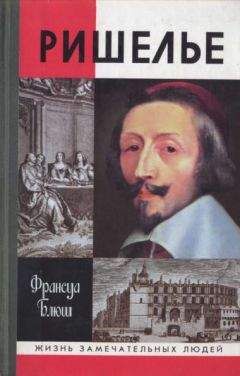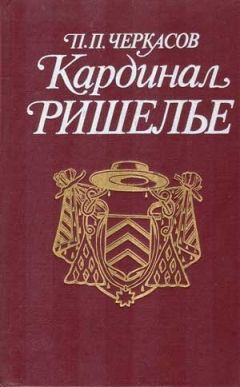Соломон Волков - Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым
Как говорит Зощенко, «ученых секретарей надо к ученым секретарям, зубных врачей к зубным врачам и так далее». А тех, кто играет на флейтах, — выселять за город. Тогда жизнь в коммуналках расцветет во всей красе.
Да, нам нужны, нам действительно нужны эпохальные и монументальные работы на бессмертную тему коммунальной квартиры. Коммуналка должна быть увековечена: описана, прославлена и воспета. Это — долг нашего искусства, нашей литературы.
Признаюсь, что и я попытался принять участие в этом общем деле. Высмеять, изобразить эту гадость в музыке. Я попытался создать музыкальное сочинение на эту бессмертную тему. Я хотел показать, что человека можно убить по-разному, не только физически. Скажем, не только с помощью пули или невыносимой работы. Человека в человеке можно убить с помощью обычных вещей, жизнью, например, в адской коммуналке. Будь она проклята!
Эта тема — не для комедии. Я имею в виду: не для насмешек или хохмочек. Это — тема для сатиры. Но Художественный театр поставил на эту тему комедию. Они решили повеселиться по этому поводу, тогда как следовало, как я уже сказал, плакать. А Станиславский, к общему изумлению, даже не понял сути сюжета. Он спросил: «В чем тут дело? Почему все эти люди живут в одной комнате?» Сам Станиславский жил в особняке.
Станиславскому сказали: «У них нет отдельных квартир». Станиславский не поверил. (Его знаменитое: «Не верю!» Дрожите, актеры мира!) Станиславский сказал: «Этого не может быть! Не может быть такого, чтобы у людей не было своих собственных квартир. Не морочьте мне голову».
Станиславского пытались убедить, что это самая настоящая правда, что некоторые граждане живут в этих «неправильных» условиях. Старик расстроился. Его успокоили. А потом Станиславский принял блестящее решение: «Ладно, в таком случае мы напишем на афише, что это — комедия о людях, у которых нет своих квартир. Иначе публика не поверит».
Это — истинная история об одном из величайших режиссеров нашего времени. Ну ясно, Станиславский жил в собственном мире. Он был возвышенным человеком с художественной душой. И получал продукты из спецраспределителя, как все гении и партийные деятели, приносящие выдающуюся пользу нашему государству.
Старик по наивности считал спецраспределитель своим «тайным поставщиком». В театре об этом говорили с ухмылкой. Станиславский действительно думал, что это большая тайна. Но никакой тайны тут не было. Все знали о спецраспределителях. Все знали, что высокопоставленные люди получают продукты из иного источника, чем другие граждане, в специальных местах, организованных только для них. Все привыкли к этому факту нашей жизни, словно так оно и должно быть. И все помалкивали, считая, что сохраняют великую тайну.
Один ленинградский мошенник сколотил на этом состояние. Он учел два обстоятельства и использовал их. То обстоятельство, что всем было известно о спецраспределителе, и то, что все молчат об этом. Те, кто не получал продуктов, молчали, чтоб не угодить за решетку за распространение клеветы, а что касается тех, кто их получал, то почему молчали они — очевидно.
Мошенник действовал так. Он читал газеты, уделяя особое внимание некрологам. Если он видел, что парторганизация какого-то завода или конторы «выражает соболезнования семье покойного», то вырезал это объявление, находил телефонный номер и через какое-то время набирал его. Мошенник представлялся начальником спецраспределителя и говорил, что они получили «указание сверху» обеспечить семью покойного «всем необходимым». «Поскольку покойный выполнял такие ответственные задания», — добавлял мошенник. Он просил составить список всего, что они хотят получить: яйца, масло, мясо, сахар, даже какао и шоколад. Всё — по фантастически низким ценам. А почему бы нет: на то и спецраспределитель, чтобы обслуживать «товарищей».
Выждав еще нескольких дней, мошенник звонил снова и спрашивал, готов ли список. Он просил, чтобы уважаемые родственники покойного явились за продуктами в такое-то и такое-то место, и, когда доверчивые люди приезжали в назначенное место, брал деньги, обещал выполнить его срочно и исчезал.
Негодяй очень долго избегал неприятностей, хотя использовал этот трюк десятки, а может быть, и сотни раз, потому что его план был прост, как все гениальное. Если бы этот жулик явился с таким предложением в семью рабочего, ему бы просто не поверили. Но в семьях служащих — верили: а как же иначе, ведь они очень хорошо знали, что спецраспределители существуют, что они безусловно функционируют, что это делается тайно и что об этом нельзя говорить.
Новый образ жизни принес множество новых свежих конфликтов. Спецраспредитель. Коммуналка. В былые века человек бродил с мечом по замку в поисках призрака. В наши времена человек бродит по коммунальной квартире с топором в руке, выискивая соседа, который не выключает свет в туалете. Вообразите роман тайн и ужасов новой эры. Вот мой герой, с топором в руке, угрожает зарубить неаккуратного соседа, если застанет его на месте преступления. Я чувствую, что недостаточно воспел ему хвалу, то есть не изобразил этого в полной мере.
Я теперь не отказываю себе в насмешках. Почему-то люди думают, что музыка должна говорить нам только о вершинах человеческого духа, или, по крайней мере, об очень романтичных злодеях. Но на свете очень немного героев и злодеев. Большинство людей — середнячки, ни черные, ни белые. Серые. Грязно-серые.
И главные конфликты нашей эпохи происходят именно на этом мутно-сером фоне. Все мы копошимся в одном огромном муравейнике. Наши судьбы в большинстве случаев — тяжелы. С нами обходятся грубо и безжалостно. А стоит кому-то заползти чуть выше других, он с готовностью начинает их терзать и унижать.
Мне кажется, эта ситуация требует изучения. Надо писать о большинстве людей и для большинства. И надо писать правду — тогда это можно назвать реалистическим искусством. Кому нужны трагедии? У Ильфа и Петрова есть рассказ о больном, который перед визитом к врачу вымыл одну ногу. А когда дошел, то заметил, что вымыл не ту ногу. Вот это — настоящая трагедия.
В меру своих сил я пытался писать об этих людях, об их очень средних, банальных мечтах и надеждах и об их необъяснимой тяге к убийству.
Жаль, что я, наверно, не был достаточно последовательным в этом отношении. У меня не было ни такой решительности, ни силы воли, как у Зощенко. Зощенко явно отвергал мысль о Красном Льве Толстом или Красном Рабиндранаде Тагоре и о том, что все эти закаты и рассветы надо описывать цветистой прозой.
Но у меня есть одно важное оправдание. Своей музыкой я никогда не пытался подольститься к власти. У меня с ней не было никаких «дел». Я никогда не был в фаворе, хотя и знаю, что кое-кто обвиняет меня в этом. Говорят, что я стоял слишком близко к власти. Оптический обман. Чего не было, того не было.