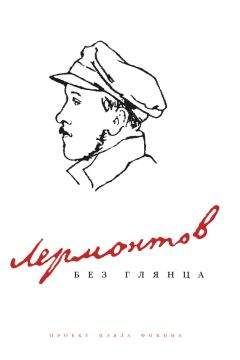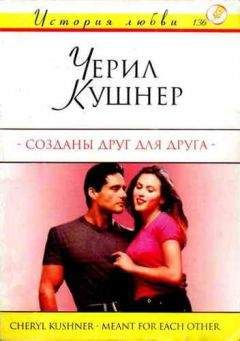Павел Фокин - Бунин без глянца
Вера Николаевна Муромцева-Бунина:
Отец поместил его (в 1881–1882 гг. — Сост.) в нахлебники к мещанину Бякину за 15 рублей в месяц на всем готовом. ‹…› Дом Бякиных находился на Торговой улице. Хозяин был богобоязненный человек, семья состояла из жены, сына, гимназиста четвертого класса, и двух девочек, очень тихих. В доме был заведен строгий порядок, отец всю семью держал в ежовых рукавицах, был человек наставительный, неразговорчивый, требовательный. И Ване было очень странно попасть к таким людям после их свободного беспорядочного дома. Первый день был особенно темный от низких туч, и когда отец уехал, то мальчикам было грустно сидеть в чужой комнате в полутьме, но лампы зажечь раньше положенного времени не полагалось. Запомнился на всю жизнь и первый ужин, состоявший из похлебки, рубцов с соленым арбузом и крупеня. Ваня не мог из-за запаха есть рубцов и ел только соленый арбуз, который ему нравился.
Бякин заметил и строго сказал:
— Надо, барчук, ко всему привыкать, мы люди простые, русские, едим пряники неписаные, у нас разносолов нету…
И эти слова Ваня запомнил на всю жизнь, почувствовав, что Бякин очень гордится своей русскостью. И чем дольше жил у них, тем больше понимал, как Бякин любит Россию и гордится ею. Любил он и стихи, иногда заставлял мальчиков декламировать разных поэтов, гордился, что Никитин и Кольцов были мещанами: «Наш брат, мещанин, земляк наш!» — не раз повторял он. Уважал просвещение, сына отдал в гимназию [35, 42–43].
Иван Алексеевич Бунин. В записи А. В. Бахраха:
Директором моей гимназии был старичок из балтийских немцев по фамилии Закс, плешивый, с заостренным черепом. Пришел он как-то на мое горе на урок математики, которую я с колыбели люто ненавидел. Я рассеянно сидел за партой, обмахивался тетрадью, потому что от моего соседа изо рта несло пшеном, а от сапожищ дегтем, и думал о моей горькой судьбине. Неожиданно меня вызвали к доске, на которой красовались нарисованные мелом какие-то никому не нужные треугольники с таинственными обозначениями на их верхушках. Мне задавали какие-то вопросы… один, другой… я стоял как вкопанный с мелком в руках, ничего не понимал и молчал.
Директор с жалостью посмотрел на меня и во всеуслышание на весь класс процедил: «Тупоголовый!»
Это было последней каплей, и такого я стерпеть не мог. Я надменно посмотрел на него, точно внезапно пробудился, и тем же тоном ответил ему: «Остроголовый!»
Скандал получился невообразимый. Меня хотели исключить из гимназии. Отца вызвали из деревни для объяснений. Но я не волновался. Я знал, что отец меня не выдаст и постоит за сына. Человек он был с норовом и с большой гордостью, а тут как будто «фамильная честь» задета. Историю эту как-то замяли, а гимназию я вскоре навсегда покинул по собственному желанию [8, 109].
Вера Николаевна Муромцева-Бунина:
В августе (1883 г. — Сост.) Алексей Николаевич отвез гимназистов в Елец. Сына поместил у кладбищенского ваятеля, и Ваня пристрастился к этим занятиям и часто вместо уроков лепил из глины кресты, ангелов, черепа… После работы хозяин с висящими усами, похожий на Дон Кихота, усаживал его с собой за стол, угощал селедкой и уговаривал выпить с ним рюмку водки [35, 49].
Иван Алексеевич Бунин:
Жил ‹…› у ваятеля всего того, что требуется для кладбищенских памятников, — и целую зиму, каждую свободную минуту мял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и достиг таких успехов, что хозяин иногда пользовался моими черепами, и они попадали на чугунные кресты в изножья распятий, где, верно, и теперь еще пребывают, — где-то там, на монастырском кладбище в Ельце! [6, 9]
Вера Николаевна Муромцева-Бунина:
Жизнь в Ельце у Веры Аркадьевны (Петиной, племянницы Л. А. Буниной, в 1885 г. — Сост.) очень не походила на жизнь у Бякиных или у ваятеля. И Ваня в первый раз увидел провинциальную богему. Его кузина была женщиной общительной, любила гостей, и у нее постоянно толклись офицеры, чиновники, актеры; самовар не сходил со стола, а по вечерам, если она не ездила в театр, то принимала у себя. При ней жила бывшая крепостная Александра Петровна, очень ей преданная, с деспотическими чертами характера женщина.
Ваню поразили актеры с бритыми губами и подбородками, свободой в обращении, беспрестанным хвастовством своими успехами. Благодаря им он начал бывать по контрамаркам в театре и перевидал все новинки сезона [35, 55].
Иван Алексеевич Бунин. В записи А. В. Бахраха:
Когда я был в третьем, а может быть, в четвертом классе Елецкой гимназии — дальше ведь я не доехал — учился со мной в одном классе некий Драковцев, фат с голубыми глазами. Он был на несколько лет старше меня, так как считал своим долгом в каждом классе оставаться на лишний год, а то и на два. Личность противная, патологическая — всего не расскажешь. Хоть я с детства неподатлив, но Драковцев меня все же порой тиранизировал. Он был много опытнее, хвастал знанием жизни, вероятно привирал, но мне он чем-то импонировал. На какую девицу я бы ни загляделся, он мне на следующий день развязно говорил: «Э-эх, да я с ней в прошлом году жил», — или: «Да я ее недавно имел».
Хоть я ему и не верил, но все-таки завидовал!
Как-то во время большой перемены он мне таинственно шепнул: «Сегодня после девяти встреча за земляным валом…»
Я, конечно, поспешил прийти. Нас, гимназистов, собралось человек шесть. Откуда-то появилась большая бутыль водки, которую друг другу передавали и пили прямо из горлышка, закусывая соленым огурцом. Противно было, омерзительно. Я всегда был донельзя брезглив, а тут еще захватывающий дыхание невкусный напиток. Боясь товарищеских насмешек, я пил, превозмогая себя.
Когда бутылка оказалась опорожненной, подозвали извозчика и уселись в него всей оравой.
«К Анисье Петровне», — скомандовал Драковцев, заранее решивший, что для меня настала пора «пасть» и в этом деле он должен стать ментором.
Елец — городок маленький, однако мы ехали довольно долго, пока не подъехали к низенькому домишке с символическим красным фонариком у подъезда. Зашли, стесняясь и друг друга подталкивая вперед. Один Драковцев делал вид, что он здесь завсегдатай. Нас окружили какие-то дебелые девки. Я сел в какой-то свободный угол и, заикаясь, заказал бутылку пива. На мои колени тотчас, без приглашения, бултыхнулась какая-то грузная, почтенных лет женщина, почти меня задавившая. «Машина» не переставала играть польку.
«Попьем пивка, потом приляжем», — сказала моя Дульцинея тоном, не терпящим возражений, и при этом попыталась поцеловать меня. Эти ее попытки бросали меня в жар и в холод, и я не знал, как мне держать себя с ней и о чем говорить.