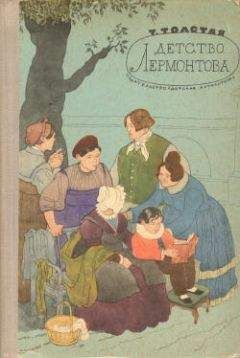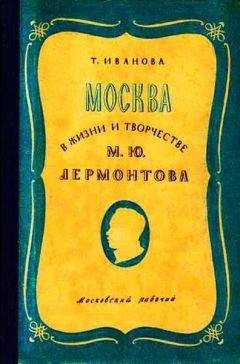Павел Висковатый - М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество
Не женися, молодец.
Слушайся меня.
На те деньги, молодец,
Ты купи коня!
В обоих поэмах героиня называется Зарою. «Аул-Бастунджи» представляет много любопытного не только для изучающего Лермонтова, но и обыкновенный читатель найдет здесь строфы, которые прочтет не без удовольствия.
Рукопись «Измаил-Бея» снабжена эпиграфом из «Гяура» Байрона; а посвящение едва ли тоже не относится к Вареньке Лопухиной. Любопытен конец его, подтверждающий наши слова, что Лермонтов в своих произведениях искал возможности разъяснить себе самого себя:
И ты звезда любви моей,
Товарищ бурь моих суровых,
Послушай песни прежних дней:
Давно уж нет у сердца новых...
Ни мрачных дум, ни дум святых
Не изменила власть разлуки:
Тобою полны счастья звуки,
Меня узнаешь ты в других.
Все слова подчеркнуты самим поэтом. В «Измаил-Бее», следовательно, любимая девушка должна найти и уяснить себе характер поэта.
В «Измаил-Бее» есть что-то роковое, признаваемое в себе и Лермонтовым. Сильно влияние, производимое Измаилом на других, но оно фатальное. Встреча с ним страшна, гибнет все, что его любит, и сам он должен погибнуть:
И детям рока места в мире нет.
Измаил-Бей по рождению — горец. Он попал на север, стал человеком цивилизованным, но его тянуло в родные горы, в то время, когда там идет упорная борьба за свободу, против пришельцев с севера, против русских. Теснимые ими черкесы оставляют Пяти-горье.
Хотя
Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя.
«В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы!» —
Так думал каждый, и Бешту
Теперь их мысли понимает,
На русских злобно он взирает
И облаками одевает
Вершин кудрявых красоту.
Лермонтов — певец свободы, говоривший:
Дайте волю, волю, волю, и не надо счастья мне.
Сочувствовал геройской войне, которую долго и упорно вели горцы, защищая свои ущелья. Это сочувствие им он выражает не раз. Но тогдашние условия цензуры были таковы, что казалось непозволительным допускать в печати выражение этого сочувствия. Да и самого слова «вольность» цензура крепко избегала. Долгое время всякие такие места заменялись точками или, по усмотрению цензора, другими выражениями. Когда поэт писал:
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
Цензура вторую строку изменила так:
От смерти груди не спасли.
Не приличествовало черкесам биться за честь и вольность, а, между тем, именно в эту страну, «где кровь черкесская текла», возвратился странник Измаил,
Но горе, горе, если он,
Храня людей суровых мненья,
Развратом, ядом просвещенья
В Европе душной заражен.
Нет!
Он сколько мог привычек, правил
Своей отчизны не оставил.
О нем так характерно рассказывает русский:
Ты знаешь, верно, что служил
В российском войске Измаил,
Но, недовольный, между нами
Родными бредил он полями,
И все черкес в нем виден был.
В пирах и битвах отличался
Он перед всеми; томный взгляд
Восточной негой отзывался.
Для наших женщин в нем был яд!..
... Любовью женщин, их тоской
Он веселился, как игрой;
Но избежать его искусства
Не удалося ни одной.
Таков был этот вернувшийся в свою родину Измаил-Бей. Но только он был
Старик для чувств и наслаждений.
Без седины между волос,
И вот в страну, где все так живо.
Он сердце мертвое принес
Почему у Измаила мертвое сердце, так и не объясняется. Да в сущности оно и не мертвое. Он его только запрятал в себе, окружил искусственной ледяной корой. Слишком он много понес разочарований. Уста, чтобы не произносить слова любви, привыкли к проклятиям; обманутый в своих мечтах, он одинок между людьми и не верит больше потому,
Что верил некогда всему.
Его страдания тем ужасней, чем более он стремился их не выказывать, оставаясь холодным, без следа душевного движения на непреступном челе. Напрасно за ним следили
И мысли по лицу узнать желали.
Но кто проникнет в глубину морей
И в сердце, где тоска, но нет страстей?
Кажется, все застыло в его груди, кроме жажды пролить кровь утеснителей свободы. Измаил всюду, где война требует своих жертв. Все остальное чуждо ему. Любовь Зары он презрел, и все-таки, когда преданная, одетая воином под именем Селима, всюду за ним следуя, она спасает его раненого, Измаил вошел в противоречие с собой и
Смущают Зару ласки Измаила.
Да, сердце его полно противоречий. Таковы и поступки его. Он ласкал Зару, а затем она сгинула не без его вины. Погибла ли она от руки его или его ненавистников? Оттолкнул ли он ее безжалостно от себя? На лице его никто не прочтет ничего, а уста хранят молчание. Противоречие видно и в том, что Измаил великодушно спасает врага в то время, как сокровенная и постоянная мечта его — кровавая месть. Но какое при этом презрение звучит в последних словах Измаила, когда он прощается с врагом своим — русским, пришедшим убить его:
Нет! не достать вражде твоей
Главы, постигнутой уж роком!
Он палачам судей земных
Не уступает жертв своих!
Твоя б рука не устрашила
Того, кто борется с судьбой:
Ты худо знаешь Измаила;
Смотри: он здесь перед тобой...
И рок настиг Измаила. Но и самая смерть открыла, в какой бездне противоречий витала непреклонная душа его. Страшный русским, верный товарищ горцев-магометан, бесстрашный предводитель их, не склонивший главы пред любовью женщины, носил на груди
Какой-то локон золотой
И белый крест на ленте полосатой,
И с негодованием отвернулись от него мусульмане:
Отступнику не выроют могилу!..
Того, кто презирал людей и рок,
Кто смертию играл так своенравно,
Лишь ты низвергнуть смел, святой пророк!
Пусть не оплакан он сгниет бесследно!..
Пусть кончит жизнь, как начал, одинок!..
Так вот тот другой, в котором Лермонтов приглашает любимую женщину познать его, поэта. В этой поэме он так характеризует Измаила, то есть самого себя:
И детям рока места в мире нет;
Они его пугают жизнью новой,
Они блеснут — и сгладится их след,
Как в темной туче след стрелы громовой.
Толпа дивится часто их уму,
Что в море бед, как вихри их ни носят,