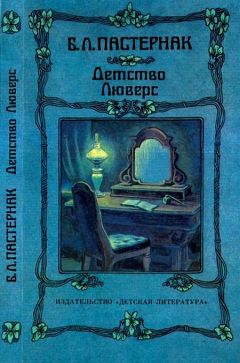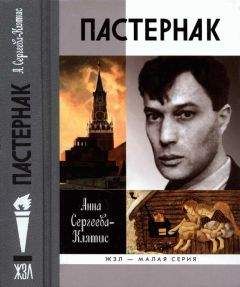Воспоминания. Письма - Пастернак Зинаида Николаевна
Но твоя подоплека восторжествовала. Ты жива сейчас во весь рост. Только отсюда нет возврата назад. Из твоего полного раскрытья, из пробужденья, а вовсе не из позора пересудов или семейных осложнений, будто бы непоправимых. Если тебя сильно потянет назад к Гаррику, доверься чувству. Смело говорю за тебя: это будет тянуть тебя вперед к нему, все у вас пойдет твоей большой жизнью, за которой вы забудете, поправимо ли или нет случившееся; вам будет некогда заниматься воспоминаньями; все затмит новизна твоих размеров, совершенных, как в детстве. Как это трудно выразить! Ты знаешь, о чем я говорю? О вернувшемся слухе и зрении; о лете в квартире, как бы только что вошедшем и присутствующем, как человек; о соотнесенности твоей красоты с тем, что делается в природе; о какой-то творческой пропорции существованья: о тебе, хозяйке, и о шкапах, полных поэзии, о кухонных полках, ломящихся от вдохновенья. Тогда не опасайся ничего дурного и тяжелого от Гаррика; ты сама будешь напоминать ему, кто он, когда он будет забываться. Так напомнила ты мне обо мне. И он будет расти от твоих напоминаний. – Или же, если тебя не закружит болью, – подари все это мне.
Пойми цель этих советов: ты должна быть счастлива. Сейчас у тебя столько данных обнять заглавную прелесть существованья, полную смысла и достоинства, – ты так возрождена этими потрясеньями, так страшно, как бы ты не ошиблась! Но пойми и причину: обо всем этом я и в том случае, если ты моя, говорю, чтоб тебе было легче. Потому что ты, верно, не сдержалась и жалеешь об этом? О, прости и ты меня, если это не так, и тысячу раз благодарю тебя. Я люблю, я люблю тебя, я тебя люблю.
С вокзала, опустив письмо, отправился наконец к Пильнякам. Как все распустилось и зазеленело в парке! Как лично я отметил эти успехи, точно прямо касающиеся меня. Девять дней как я оттуда, а с каким волненьем я шел туда и вошел! Я только что не расчмокался с обеими, но руки целовал по нескольку раз. Как много обе они значат для меня и сколько дали своей сдержанной, холодной нежностью, одинаковой у обеих. Там был Вл. Эд. Мейер (сидел с Ольгой Сергеевной на вечере). В шутку доказывали, что я их забыл. О. С. приготовила мне подарок. Развернул, – полфунта чаю. Сели засветло ужинать на террасе. Опять О. С. умно и скупо, без разлета, – по-девически как-то говорила о разном, но очень умно. И вдруг Вл. Эд. как-то упомянул о вечере. Ведь тогда мы расстались: приехал туда с О. С, а ушел без нее, без В. Э., без парка. О вечере сказал, что – стыжусь, был взвинчен, не учел интимности читанного, сам бы не догадался о бестактности, но потом столкнулся с мненьями, наведшими меня на ум. О. С. сказала, что тогда нельзя писать лирики, никакой, потому что эти стихи она воспринимала всеми фибрами до последней прожилки, они кровно отдавались в ней, – и если этой лирики оглашать нельзя, то другой писать не стоит, таким образом, она вообще невозможна. – Сказал об ордере, что до 20-го, а ты, верно, в Киеве пробудешь до тех же чисел. Тогда Е. И. сказала, чтобы я с О. С. пошел, что она тебя для тебя заменит и понимает. А я говорю – да там главное не З. Н., а – детское, для детей (ну – чулки). Все равно, говорит О. С. и, кажется, покраснела. От П<ильняков> надо было к Звягинцевой [159], за письмом и книжкою С<ергея> Д<урылина> [160], ссыльного, о котором рассказывал. Звягинцева – славная, порядочная поэтесса, но без оригинальности. Прочла два стихотворенья, обращенные ко мне. Пришлет по почте. И. С. звонила. Узнал, что Гаррик у Смирновых [161] и что младшая С<мирнова> [162] в Москве, сегодня возвращается в Киев. Сейчас пойду, попрошу опустить по приезде в ящик.
Золотая моя, что бы ни случилось, не забывай меня, умоляю тебя. Пиши. Прочти и не смейся. Больше таких длинных писем писать не буду.
Письмо написано в Москве и отправлено в Киев (примеч. З.Н. Пастернак).
15. V.31.
Дорогой мой друг, я еще не надоел тебе? Ты ужаснешься и выбранишь меня, когда приедешь: я ничего не сделал из того, что должен был сделать без тебя. Но все это успеется. И я слишком много пишу тебе. Еще одно такое письмо, и я не буду уверен, дочитаешь ли ты их до конца.
Сегодня я хотел написать Гаррику, но вместо него опять пишу тебе. Я бы написал ему горячо и коротко, с беззастенчивой, ни на что не оглядывающейся любовью. Что мой разговор с ним о тебе прекращается, что это больше не тема, что это моя жизнь, в которой никому не известного больше, чем доступного обнаруженью, что это – ты, никому не известная, а не предмет наших скрещивающихся переживаний. Ты, а не я и не он. Что интерес к судьбе нескольких весенних концертов мыслим у его родных, у киевских знакомых и московских учеников, но ниже его достоинства и его природы. Что судьба этих выступлений в его руках, и именно потому, что множество артистов в его глазах – циркачи, поприще которых дальше проволоки не идет, он намеренно напоминает себе, что он не циркач, и его участь проволокой не решается, и умышленно играет всем этим, и давит концерты, как чашки. Что ни он, ни ближайшие к нему люди в таких напоминаньях не нуждаются, потому что и сами никогда проволоки не обожествляли. Что с первых встреч я уловил прирожденную бесконечность в нем, и как раз к ней всегда обращался, когда всего прямее адресовался к нему. Что теперь как раз время второй раз в жизни сухо, преданно, скромно и смело всмотреться в эту бесконечность и понять себя без перебоев, как шоссе, как большой проспект. Что от этой необходимости он не уйдет и тогда, если бы ты рассталась со мной и к нему вернулась. Потому что бесконечности, твоя и моя, – заговорили, и ведь это главное из того, что случилось. А то ведь сколько народу влюбляется ежегодно и перестает любить, и превратности в браках так распространены, кого бы это удивило. И вместо этого пишу тебе.
Недели две назад, в парке, мне стало казаться, что нас не хотят видеть вместе. Тогда сердце упало у меня. Приходила ты, передавала разговоры, слышанные тобой, но тем для меня и красноречивые, что тобой услышанные и неотраженные. Бобров звонил, в интересах Жени, бородато и усовещательно, из несуществующей многолетней дали, «лучший друг» Ночной фиалки, убежденно-бескрылый, навязчиво-слабый, но и злой, если дать ему все это заметить. И Ир<ина> Сер<геевна> огорошила общим характером сплетен; прекрасный, несмотря на все выходки, и – родной человек. И ты точно уходила, – не ты (разве ты можешь уйти) – но твое присутствие, твоя помощь, естественность твоего места рядом со мной в глазах жизни, в глазах людей. Уходила так, как можешь уйти сейчас.
Но в последнее время мне легко, как зимой. Нас знают вместе и радуются этому. И это – лучшие ваши друзья. Собираясь к Вере Васильевне, чтобы передать письмо Леле, невольно подумал. Гаррик, по слухам, у Смирновых. Тут знают это. Л. никогда не видела меня. И увидит. Сравненья, – в пользу и во вред, совершенно естественны. И – неизбежны. Я никогда не стал бы тягаться. Но чтобы и не заподозрить себя ни в чем, пошел невыгоднейше. Небритым, нечесаным, в затрапезнейшем моем и штопаном, которого ты никогда не видела, и в уродливом моем пальто, хотя тепло было, в пальто, которое Женя завещала дворнику отдать. Вера Васильевна больна, бедняжка, у нее возврат давнишней малярии. Но застал ее на ногах. Слабость искажает иные лица. Но ее еще выигрывает от усталости. Какой я вздор пишу об этом посещении! Но вот что важно. Она сияла, и дочка и сестра. Все в ее комнате прощало меня и ничего не сравнивало. Она сказала мне о своей радости по поводу всего, несмотря на свою большую и постоянную любовь к Гарри, как она прибавила. И так же неразрывны мы в сознании Асмусов, и даже в представлении В<алентина> Ф<ердинандовича> – я был у них вечером.