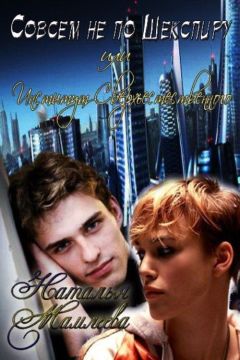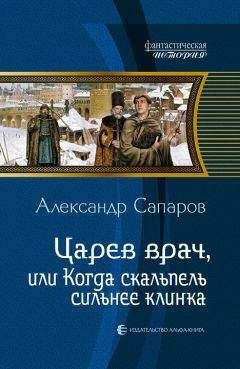Александр Крон - О первой дружбе, о первой пьесе
Там же, в Корчеве, мы начали репетировать пьесу, которую по примеру "Красных крыльев" решили писать коллективно. Мы с Валькой считали, что у нас уже есть некоторый опыт, и были очень удивлены, когда выяснилось, что мы умеем не больше других, то есть ровным счетом ничего. Дело было, конечно, не в том, что мы чему-то разучились, скорее, в том, что мы стали старше и кое-чему научились. Мы приуныли, но ненадолго. Не умеем, значит, надо подучиться. Вопрос о том, есть ли у нас способности, нас почему-то не беспокоил. А вот как найти такое место, где учат писать пьесы?
Оказалось, что такое место есть. Называлось оно "Союз революционных драматургов".
Мастерской мы с Валькой остались верны и тогда, когда, преодолев на своем пути множество препятствий, она переехала в помещение Дома художественного воспитания имени Поленова, а затем превратилась в Государственный педагогический театр. Но на сцену так и не пошли. Наш уговор оставался в силе. По окончании школы мы оба пошли на производство: Валька наборщиком в типографию, а вслед за ним и я - учеником слесаря на завод. Помимо работы в цехе появилось много новых забот и обязанностей, и мы стали реже появляться в театре. Зато начали сочинительствовать, причем сразу во всех жанрах: мы писали прозу и стихи, скетчи и пародии. Валька набирал мои стихи в типографии и приносил свежие оттиски, - это волновало. А в возрасте шестнадцати лет я написал трагедию и имел наглость прочитать ее на заседании Союза революционных драматургов, где присутствовали настоящие драматические писатели, мастера своего дела.
Пьеса эта не была бы написана, если б не связывавшая нас с Валькой крепкая дружба.
Я уже говорил, что Валька был натурой бурной и подверженной увлечениям. Влюблялся он ненадолго и большей частью платонически, но каждый раз ему казалось, что это и есть тот самый случай, от которого зависит его счастье. Во влюбленном состоянии Валька становился опасен и для себя и для окружающих, его томила жажда необыкновенного, отношения, лишенные драматизма, ему быстро наскучивали. Ему надо было ссориться и мириться, клеймить презрением и жарко каяться, без этого он жить не умел. Как-то летом у Валентина произошла очередная ссора с одной милой девочкой, которая, будучи существом жизнерадостным, очень уставала от Валькиных сложностей. На другой день после ссоры она уехала из Москвы, оставив дома записку совершенно в Валькином духе: трагическую и загадочную. Прямой угрозы покончить с собой в записке не содержалось, но при свойственной Вальке пылкой фантазии можно было предположить все что угодно. Валька заметался. Броситься по следам беглянки он не мог: его не отпускали с работы, а я в то время еще не работал. Короче говоря, "сначала действовать, нравоучения потом!": друзья собрали мне на дорогу, и в тот же день я выехал в Дмитров, имея в качестве путеводной звезды одно слово - Михалина. Михалиной звали близкую подругу Валькиной дамы сердца. Жила Михалина на хуторе у своего отца где-то в Дмитровском районе. Вся надежда была на то, что Михалина комсомолка и, следовательно, состоит на учете райкома, а также на то, что имя это редкое и трудно предположить, что среди дмитровских комсомолок есть две Михалины.
Когда я вышел из вагона, уже темнело. От вокзала до города надо было добираться пешком. Расстояние меня не смущало, но я понимал, что на ночь глядя я никого в райкоме не застану и ночевать мне будет негде. Поэтому я решил переспать на вокзале, а розысками заняться с утра. Вокзал был пуст и темен, но мне не спалось. Мог ли я предположить, что этой бессонной ночью произойдет моя первая встреча с героем пьесы, которую мне суждено будет написать дважды - по свежим следам, в ученическую тетрадку, и второй раз, почти через десять лет, уже профессионально? Герой этот существовал в действительности. В висевшей на стене запыленной фотовитрине я увидел выцветшую фотографию, а под ней подпись, из которой явствовало, что ефрейтор Дорофей Семеняк был членом большевистской организации и расстрелян в 1905 году за убийство прапорщика Золотарева, издевавшегося над солдатами.
Итак, всего двадцать лет назад на этом самом вокзале разыгралась трагедия. И мое воображение заработало. Мне казалось, что старый вокзал еще полон тенями и отзвуками прошедших событий. И наутро, шагая по дороге в город, я был еще полон своими ночными видениями.
В райкоме комсомола меня встретили с патриархальной простотой и без всяких проволочек допустили к картотеке. Я боялся, что не найду никакой Михалины, и был порядком удивлен, когда их оказалось три. Мне объяснили, что в районе, на хуторах, живет много поляков и среди польских девушек Михалина не такое уж редкое имя. Хутора были раскиданы на немалом расстоянии один от другого, и до ближайшего было по меньшей мере верст пятнадцать.
Весь день я проплутал по проселочным дорогам и неогороженным яблоневым садам, питаясь падалкой и расспрашивая встречных крестьян. К вечеру, еле волоча ноги, я добрался до хутора и, проходя мимо сеновала, услышал девичьи голоса и смех. Один из голосов, именно тот, который смеялся, был мне хорошо знаком. Собственно говоря, мне следовало обрадоваться, но смех привел меня в ярость, и меня долго кормили, поили и уговаривали, прежде чем я согласился переложить гнев на милость. На следующее утро отец Михалины отвез нас на вокзал. В вагоне я все время молчал, делал вид, что продолжаю дуться, а на самом деле думал о Дорофее Семеняке. У меня были серьезные подозрения, что прапорщика убил не он.
Пьесу я написал единым духом, почти без черновиков, не утруждая себя историческими изысканиями, с той безудержной отвагой, которая свойственна невеждам. В таком виде я и прочел ее на очередном не то "вторнике", не то "четверге" СРД*. Происходили эти чтения на квартире у старого большевика Владимира Александровича Тронина, жившего в то время на Мясницкой. Несмотря на то, что автору едва исполнилось шестнадцать лет и он был решительно никому не известен, на читку явился весь синклит; меня слушали очень внимательно, после чего не оставили от пьесы живого места. По меньшей мере двенадцать человек, прихлебывая чай и жуя бутерброды с кетовой икрой, говорили о моем легкомыслии и невежестве, о неумении строить сюжет и вести диалог. Не могу сказать, что мое авторское самолюбие было оскорблено, в то время я еще не знал, что это такое. Я искреннейшим образом расстраивался, что испортил вечер почтенным людям и меня больше никогда не позовут в этот симпатичный дом. Поэтому я был приятно изумлен, когда после обсуждения ко мне подошли несколько самых уважаемых членов Союза и сказали, что, по их мнению, мой дебют прошел очень удачно и пусть меня не смущает ругань, здесь достается всем, а в пьесе несомненно что-то есть, и когда-нибудь я к ней еще вернусь. Мне было сказано также, что я могу и впредь посещать все читки, а в дальнейшем будет организован специальный семинар для молодых драматургов, и, конечно, я буду зачислен без всяких испытаний.