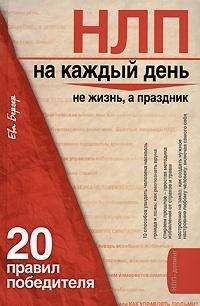Александра Анненская - Чарльз Диккенс. Его жизнь и литературная деятельность
Несмотря на неблагоприятную обстановку, наблюдательность и фантазия его не погибали. Все улицы и переулки, по которым он проходил, запечатлялись в уме его с самыми мельчайшими подробностями, множество лиц, с которыми он встречался, воскресли с поразительной жизненностью в его романах. Мать рассказывала ему истории из жизни разных обитателей долговой тюрьмы, а он своим воображением дополнял и разукрашивал эти рассказы. Часто по утрам ему приходилось ждать около тюрьмы, пока отворят ворота; с ним вместе ждала молоденькая поденщица, приходившая помогать его матери в домашних работах, и он все время занимал ее разными фантастическими рассказами собственного сочинения. У него не было времени на чтение, не было денег на покупку книг, но во время работ на складе ваксы он часто вспоминал романы, прочитанные им в более счастливые годы, и рассказывал их рабочим.
Такая тяжелая жизнь мальчика продолжалась года три, как вдруг отец его неожиданно получил небольшое наследство. Это дало ему возможность расплатиться с долгами и выйти из тюрьмы. Ему показалось унизительным, что сын его работает как простой рабочий, он взял Чарлза из мастерской и поместил его в школу. В доме Диккенсов старались никогда не упоминать об этих годах, считавшихся позорными для семьи, и сам романист много лет спустя не рассказывал о них даже своим ближайшим друзьям.
«Я опустил завесу на этот период моей жизни, — пишет он в своих записках, — и до сих пор не поднимал ее ни для кого, даже для жены. Пока все соседние улицы не были перестроены, у меня не хватало мужества сходить посмотреть на то место, где я жил жалким поденщиком. Много лет спустя, когда мне случалось бывать около магазина ваксы Уоррена, я переходил на другую сторону улицы, чтобы не слышать запаха, напоминавшего мне мое прошлое. Когда мой старший сын уже умел говорить, я все еще не мог без слез пройти по переулку, которым, бывало, ходил из склада домой».
ГЛАВА II
Два года провел Диккенс в школе мистера Джонса, носившей громкое название «Классическая и коммерческая академия Вашингтонхауз». Трудно предположить, что эти два года много дали ему в смысле научного развития, тем более что начальник школы был человеком малообразованным, преподавание велось рутинным способом, дисциплина поддерживалась посредством побоев и телесных наказаний. Пребывание в школе имело для мальчика хорошую сторону потому, что вернуло его в общество сверстников, уничтожило мучившее его чувство приниженности и возбудило в нем сознание собственных умственных сил. С изменившимися обстоятельствами поправилось и его здоровье. Товарищи по школе вспоминают о нем как о веселом, даже шаловливом мальчике, охотно участвовавшем во всех школьных шалостях и проделках. Он вместе со своими одноклассниками воспитывал белых мышей в пюпитре, дразнил старых леди, прикидываясь нищим и выпрашивая у них милостыню, выдумывал особенный язык «lingo», разыгрывал драматические сцены и маленькие комедии в зале школы. Благодаря хорошим способностям и прилежанию он не отставал в ученье от своих сверстников, и никто из них не подозревал, как шла его жизнь в предшествующие годы. В «академии», так же как в тюрьме, как в бедных лавчонках и грязных переулках, наблюдательность не покидала Диккенса: он до тонкости узнал жизнь школы и школьников и мог впоследствии воспроизвести в своих романах все ее полугрустные, полусмешные эпизоды.
Наследство, полученное отцом Диккенса, было скоро прожито. Чтобы как-нибудь сводить концы с концами, он занял место репортера в одной небольшой газетке. Пятнадцатилетнему Чарлзу пришлось оставить школу и снова начать зарабатывать свой хлеб. Его определили младшим клерком (писцом) к стряпчему на жалованье тринадцать с половиной шиллингов в неделю. Опять приходилось ему проводить целые дни за неприятной работой, в обществе разных конторщиков, юмористические фигуры которых населили впоследствии его произведения. Снова рушились его надежды стать человеком образованным и сколько-нибудь подняться по общественной лестнице, опять видел он в перспективе долгие годы скучной работы, скудного заработка, серой, однообразной жизни. Но на этот раз будущий романист не покорился своей участи с безропотностью ребенка. Он решил собственными усилиями выбиться из тяжелых обстоятельств, завоевать более счастливое положение. Чтобы восполнить пробелы своего образования, он стал аккуратно каждый день проводить несколько часов за чтением в библиотеке Британского музея, а для увеличения своих материальных средств задумал сделаться, по примеру отца, репортером и выучиться стенографии. В «Дэвиде Копперфидде» мы имеем яркое описание того, с каким трудом давалось ему изучение этого искусства. Но юноша не унывал; все немногие минуты, свободные от других занятий, отдавал он учебнику стенографии и достиг того, что года через два-три сделался одним из лучших стенографов Лондона. Долго не удавалось ему получить места в галерее парламента в качестве репортера какой-нибудь политической газеты. Он должен был ограничиваться составлением судебных отчетов. Работа эта была непостоянная, оплачивалась скудно, и Диккенс задумал попробовать свои силы на другом поприще. Он стал готовиться к сцене, ходил в театры, когда там играли хорошие актеры, а дома, запершись у себя в комнате, упражнялся по нескольку часов сряду в чтении ролей и в разных мимических движениях. Наконец, когда ему показалось, что он достаточно подготовился, он обратился к содержателю одного из лондонских театров, Бартлею, с просьбой принять его на сцену. Бартлей назначил ему испытание через две недели. С неописуемым волнением готовился Диккенс к этому испытанию, но — увы! Накануне назначенного дня он простудился, у него сделалась рожа на лице и воспаление уха! Пришлось отложить испытание до следующего сезона. Между тем маленькая газетка «True Sun» предложила ему место стенографа, и таким образом он получил доступ в галерею парламента, а несколько месяцев спустя был зачислен в число репортеров большой ежедневной газеты «Morning Chronicle». Эта новая должность отнимала столько времени и оплачивалась так хорошо, что Диккенс отказался от мечты о театре.
Вот как сам он описывал свою жизнь репортера много лет спустя на одном обеде в обществе литературного фонда. «Я начал свою репортерскую деятельность при обстоятельствах, о которых многие из здесь присутствующих собратьев моих не имеют ни малейшего представления. Часто, восстанавливая для печати стенографические записки важных политических речей, при передаче которых требовалась величайшая аккуратность, где малейшая ошибка могла совершенно скомпрометировать молодого репортера, я должен был держать бумагу на ладони руки и писать при скудном свете фонаря, в почтовой карете, мчавшейся с изумительной по тому времени быстротой — пятнадцать миль в час. Помню, как мне пришлось в Эксетере записывать предвыборную речь Джона Рассела во дворе замка, среди неистовых криков всех местных шалопаев и под таким проливным дождем, что двое из моих товарищей добродушно держали носовой платок над моей записной книжкой, точно балдахин при религиозной процессии. Я протер себе колени, сидя на задней скамейке в старой галерее старой нижней палаты; я отбил себе ноги, стоя в старой палате лордов за нелепой загородкой, куда нас загоняли точно стадо овец, в ожидании, пока председатель займет свое место. Возвращаясь в Лондон, в нетерпеливо ожидавшую меня редакцию, с оживленных митингов из провинции, я, кажется, перепробовал все возможные экипажи, известные в стране. Сколько раз приходилось мне поздней ночью останавливаться милях в сорока-пятидесяти от Лондона, среди грязной проселочной дороги из-за того, что лошади не могли двигаться от усталости или колесо свалилось и извозчик оказывался пьяным! А между тем я до сих пор помню, как много привлекательного было в моей тогдашней работе! Сама быстрота и точность, с какой я должен был исполнять ее, доставляли мне истинное наслаждение».