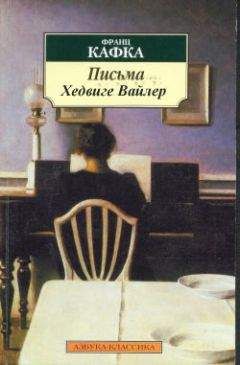Константин Сапожников - Уго Чавес
Облик столицы в 2002 году определяли уличные торговцы — buhoneros, оккупировавшие улицы. Пёстрые шатры, лотки, импровизированные киоски, товары, разложенные прямо на асфальте и некогда ухоженных газонах, — от всего этого рябило в глазах, и у стороннего наблюдателя создавалось впечатление, что бесцеремонно-шумный табор расположился в Каракасе надолго, игнорируя запретительные постановления властей. Терпимое отношение городского начальства к «буонерос» объяснялось тем, что уличная торговля (иначе — неформальная занятость!) позволяла смягчить безработицу, уровень которой достигал тогда 20 процентов трудоспособного населения.
Нашествия «буонерос» в центральной части города избежала только площадь Боливара, на которую выходят окна муниципалитета, старого здания МИД и кафедрального собора. Но и без торговцев площадь была полна людьми: самодеятельными политическими ораторами, страстными интерпретаторами Библии, скупщиками золота и распространителями революционной литературы. Старики-пенсионеры на скамеечках обсуждали текущие события. Им было о чём поговорить: политический пульс Венесуэлы в те дни частил как у загулявшего гипертоника.
Бульвар Сабана-Гранде, пешеходная зона протяжённостью километра в три, где когда-то отдыхала «приличная публика», прогуливались дамы с собачками, стайки туристов всматривались в роскошные витрины, солидные рестораны заманивали клиентов ароматами итальянской, французской и «креольской» кухонь, тоже был превращён в скопище уличных торговцев. Не менее трёх тысяч киосков плотно заполнили пространство бульвара: ни прогуляться, ни отыскать захиревшие или вовсе исчезнувшие когда-то модные бутики. Товар, которым торговали «буонерос», очень напоминал то, что продаётся покупателям на российских товарных рынках. Интернационал ширпотреба, пиратской продукции, суррогатов и подделок модных торговых марок. Потом мне довелось наблюдать, как нелегко пришлось избавляться от этого неолиберального наследия. Только к лету 2006 года улицы Каракаса, да и других городов страны, были очищены от «стихийной торговли».
Площадь Чакаито, восточная оконечность бульвара Саба-на-Гранде, стала рубежом, который «табор буонерос» не смог преодолеть. Там, где расположен памятник кубинскому революционеру Хосе Марти, проходит условная «политическая граница» между западной и восточной частями города, граница противостояния, которое в начале 2000-х годов определяло всю внутреннюю жизнь Венесуэлы. На западе доминировали сторонники президента Чавеса, на востоке — оппозиция, хотя «анклавов» иной тенденции по обеим сторонам «линии разграничения» было более чем достаточно.
Из-за массированной обработки средствами массовой информации обитатели столицы были политизированы до предела. Манифестации, «перекрытия» дорог, ночные протестные бдения со свечами, мотоциклетные рейды во «вражеские тылы», подбрасывание шумовых взрывпакетов, «касероласо» — негодующее битьё по сковородкам и кастрюлькам, — всё это затрудняло передвижение по Каракасу. Открывая утренние газеты, первым делом приходилось смотреть, где, когда и по каким маршрутам будут двигаться манифестации, иначе легко было попасть в многочасовую пробку или, не дай бог, в потасовку между чавистами и оппозиционерами. Такой меня встретила столица Венесуэлы летом 2002 года.
Иностранцу, приезжающему на работу в Каракас, приходится порядком поездить, чтобы выбрать подходящее «местожительство». В 1980-е годы наиболее спокойным и привлекательным для иностранцев районом города была Флорида, с элегантными кинтами (коттеджами) и многоэтажными домами, которые поражали модернистскими зеркально-бетонными линиями и плоскостями. Над тихими улицами нависал плотный зелёный шатёр, спасавший от палящего солнца и внезапных ливней.
На четвёртом году революции желающих селиться в районе Флориды стало меньше. С нашествием на близлежащий бульвар Сабана-Гранде уличной торговли в районе заметно подрос уровень преступности. Поэтому здесь исчезли многие магазины, закрылись или понизили свой класс рестораны и кафе, а по периметру жилых домов были возведены каменные ограждения с колючей проволокой и будками охранников. На окнах квартир до третьего-четвёртого этажей появились решётки, а проезды на подземные автостоянки стали контролироваться телекамерами. Казалось, район перешёл на осадное положение. И не только этот.
Наиболее безопасными стали те районы, что расположены на возвышенностях. «Urbanizaciones» — так называются эти жилые зоны, своего рода белокаменные крепости-кондоминиумы, добраться до которых можно только по извилистым дорогам под неусыпным контролем полиции и частных охранных служб.
В дни острой, к счастью, словесной, конфронтации между чавистами и оппозицией в горных кондоминиумах жильцы несли ночные дежурства, строили баррикады, создавали запасы продуктов и питьевой воды на случай нашествия «чавистских орд». Муниципальные и домовые активисты рекомендовали жильцам вооружаться. Конечно, чависты и не помышляли об атаках на «urbanizaciones», но лидеры оппозиции считали, что страх — наилучшее средство для консолидации «сил сопротивления».
В горах, может, и безопаснее, но для размещения корпункта они не годились. Исходя из прошлого опыта, место для корпункта было выбрано в Чакао, почти у символической границы гражданского противостояния, то есть — в центре событий. В Чакао заправляла оппозиция. На поддержание порядка средств не жалели: повсюду пункты муниципальной полиции, патрули, охрана в штатском. Безопаснее места не найти.
Как оказалось, самым сложным за время моей журналистской работы в Венесуэле было сохранение «нейтралитета» по отношению к противоборствующим сторонам — чавистам и оппозиции. И те и другие ревниво относились к проявлениям симпатии к «противнику» и если уличали или даже подозревали тебя в этом, то поддержание нормальных рабочих и тем более дружеских связей становилось невозможным.
Моё первоначальное непонимание всей глубины раскола в венесуэльском обществе привело к тому, что я растерял многих хороших знакомых по первой командировке в страну — от политиков и журналистов до тех, с кем поддерживал отношения бытового характера. Больше всего, конечно, меня поразила смена политических убеждений у тех, кого я считал безоговорочно «левыми».
Милейшая Алехандра, прежде лечившая зубы руководству компартии и рядовым пролетариям, во время первой же встречи заявила мне о своём категорическом неприятии «боливарианского режима» и желании ещё активнее бороться с ним. Мои наивные попытки сказать что-то в пользу «режима», хотя бы его очевидных стремлений решить неотложные социальные проблемы, были восприняты Алехандрой как недопустимая ересь.