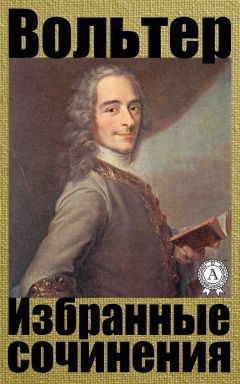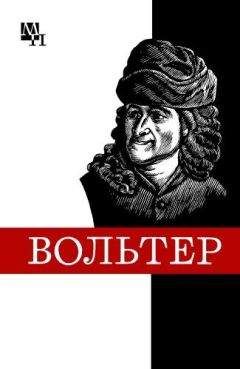И. Каренин - Вольтер. Его жизнь и литературная деятельность
В 1724 году появилась поэма Вольтера о Генрихе IV, которая в первом издании называлась «О лиге». Напечатана она была тайно и, по уверению Вольтера, без его ведома, с многочисленными пропусками и ошибками. Но как ни плохо было издание и как ни горько жаловался на него Вольтер, оно тем не менее сильно подняло его славу. Эпос вообще считался в то время высшим родом поэзии. Эпическая поэма казалась даже необходимой для славы нации, и самолюбие французов давно страдало от отсутствия у них таковой. Автор, давший наконец Франции ее поэму, не мог не подняться очень высоко в глазах соотечественников. Теперь это произведение кажется нам скучным, холодным, совсем не поэтическим. Но XVIII век, имевший очень мало чутья к чистой поэзии, век «просвещения», умственной борьбы и пропаганды по преимуществу, высоко ценил свою поэму. Горячий поклонник Вольтера, Кондорсэ в своей «Жизни Вольтера», изданной в 1789 году, соглашается, что некоторые из эпических поэм, считающихся великими, превосходят «Генриаду» разнообразием действия и интересом событий, но ее недостатки в этом отношении с избытком вознаграждаются в другом. Ни одна поэма, говорит он, не заключает в себе такой «глубокой философии», такой «чистой морали», ни одна не отличается такой «свободой от предрассудков»… «Из всех эпических поэм одна „Генриада“ имеет нравственную цель… потому что она дышит ненавистью к войне и фанатизму, терпимостью и любовью к человечеству». Вот чем восхищается в «Генриаде» человек XVIII века. Он ценит ее, главным образом, как орудие пропаганды, которому форма эпической поэмы придает особенную силу. Уже то одно имело политическое значение, что героем поэмы был творец Нантского эдикта в то время, когда отмена этого эдикта оставалась еще зияющей раной в государственном организме Франции; когда галеры были полны пасторами-гугенотами, тайком пробравшимися во Францию и уличенными в совершении богослужения; когда браки гугенотов не признавались законными и их дети не имели гражданских прав. «Генриада» при таких обстоятельствах была действительно проповедью человеколюбия и терпимости.
Глава II
Столкновение с де Роганом. – Опять Бастилия и изгнание. – Влияние Англии на Вольтера. – «Английские письма».
В 30 лет Вольтер достиг, по-видимому, блестящего положения. Как по собственному мнению, так и по мнению значительной части публики, он стоял уже во главе современной французской литературы, причем вращался в самом высшем обществе и, считая своими друзьями титулованных особ, являлся своим человеком в их салонах. Не всем, однако, нравилось его положение в этих салонах. Не нравилось оно любимцам молодого короля, не нравилось недавно приставшему к их кругу кавалеру де Рогану. Кастовая исключительность дворянства была уже настолько расшатана, что позволяла принимать в свое общество поэтов-недворян. С ними обращались как с равными. Светская любезность, светские нравы требовали этого относительно каждого гостя. Но в глубине души их не считали равными.
К тому же Вольтер нимало не подходил к типу скромного поэта, чувствующего милость высоких меценатов. Не то чтобы он был дерзок или заносчив, – он в совершенстве усвоил утонченные манеры того общества, в котором вращался. Но вполне искренно он чувствовал себя не только равным, но высшим существом в каждом обществе, в которое попадал. По своей живости, находчивости, остроумию он не мог оставаться в тени, всюду занимал первое место и слишком часто, по мнению де Рогана и подобных ему людей, ничем не отличавшихся, кроме титулов, приковывал к себе всеобщее внимание. Де Роган решил выбросить его из этого общества. Он начал придираться к Вольтеру и искать с ним ссоры. Быстрый на ответы Вольтер не оставался в долгу. Не находя ничего более остроумного, де Роган пробовал потешаться над именем Вольтера, намекая на его слишком скромное происхождение. «Я не волочу за собою великого имени, – парирует Вольтер, – но делаю честь тому, которое ношу». При одном из столкновений в театральном фойе Роган поднимает трость. Госпожа Лекуврёр, знаменитая актриса и приятельница Вольтера, весьма кстати падает в обморок и тем прекращает ссору. Поразмысливши на досуге, Роган нашел, вероятно, что лакейскими руками гораздо удобнее драться, чем собственными. Такие расправы не были в то время чем-нибудь слишком исключительным в отношениях дворян с писателями.
В конце декабря 1725 года – через несколько дней после ссоры в театре – Вольтер обедал у Сюлли, когда его вызвали под каким-то предлогом на крыльцо. Ничего не подозревая, он вышел, как был, с салфеткой в руке. Четыре лакея кавалера де Рогана тотчас же набросились на него. Одни держали, другие били, а сам де Роган командовал экзекуцией, сидя в карете. Он же и приказал прекратить ее. Вольтер бросается назад к Сюлли. Десять лет он считает герцогов своими друзьями; десять лет он свой человек в их доме. К тому же оскорбление нанесено гостю Сюлли на пороге его дома. Вольтер уверен в солидарности с собой хозяина и приглашает его отправиться вместе к комиссару заявить о произведенном разбое. Сюлли наотрез отказывается принять какое бы то ни было участие в неприятной истории. С этих пор Вольтер уже никогда не встречался с Сюлли. Он бросил всякую мысль о судебном преследовании. Оставалась одна дуэль. Но и в этом деле он не мог надеяться на помощь и сочувствие своих великосветских знакомых. Они действительно не нашли в поступке Рогана ничего особенно предосудительного и за глаза подшучивали над его жертвой. «Удары были плохо даны, но хорошо приняты», – заметил принц Конти, тот самый, который воспевал Вольтера в стихах. Аббат Комартэн, родственник старого Комартэна, у которого не раз гостил Вольтер, находил даже, что дворяне были бы очень несчастны, «если бы у поэтов не было плечей для палок».
Не только светские знакомые, даже искренние друзья Вольтера были невысокого мнения о его храбрости. Вот как выражается в своих мемуарах маркиз д'Аржансон, школьный товарищ и неизменный приятель Вольтера: «Давно уже замечена разница между умственной и физической смелостью. Они редко соединяются. Вольтер может служить примером. Его душа полна мужества, достойного Тюрена. Он смотрит с высоты, он предприимчив, ничто не может смутить его; но его пугает малейшая опасность, грозящая его телу».
Вольтер действительно не храбрец, он очень мнителен относительно своего здоровья и говорит о близости смерти при всякой болезни. Он, правда, всю жизнь постоянно рискует попасть в тюрьму за свои произведения, но зато и отрекается от них, и кричит о клевете, и старается оградить себя. Но, хотя он и не храбрец, – как все нервные, впечатлительные люди, особенно под действием такого оскорбления, способны становиться на время храбрецами, – вопреки ожиданиям своих знакомых, он упорно и страстно добивается удовлетворения. В пользу Вольтера свидетельствует в данном случае полиция. Она, в угоду семье Роганов, неотступно следила за ним со дня побоев и доносила о каждом его шаге. Эти донесения, неизвестные современникам, защищают честь Вольтера перед потомством.