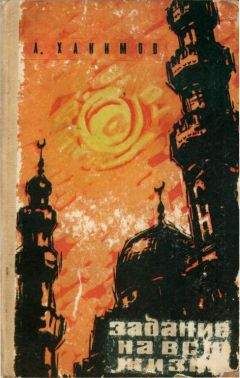Дэвид Дайчес - Сэр Вальтер Скотт и его мир
К примеру, о собаках у Дайчеса сказано мало, учитывая роль, какую эти четвероногие друзья человека играли в жизни Скотта, завзятого «собачника», преданного своим любимцам. Мельком упомянуто о его страсти сажать деревья, а ведь он насадил целые рощи вокруг Ашестила, где прожил с семьей несколько летних сезонов, и знаменитого Абботсфорда, так что в наши дни эти особняки смотрятся совсем по-другому, чем во времена Скотта. Можно было привести и иные примеры вынужденного самоограничения Дайчеса (жанр диктует свои требования), но следует отдать критику должное: он «схватил»основное и определяющее в связях писателя и человека с его временем и его землей и сумел донести это до читателя. Если говорить о досадных упущениях, то по-настоящему огорчает лишь то, что за границами очерка осталась такая существенная часть «мира» Скотта, как общение с простыми людьми.
Все биографы писателя единодушно отмечают его уважительное и внимательное отношение к представителям самых разных сословий и профессий, с которыми его сводила жизнь: шерифа Селкиркшира — к своим подопечным, как законопослушным, так и отходившим от «путей праведных»; хозяина большого дома — к слугам; владельца абботсфордских земельных угодий — к арендаторам; путешественника по казенным и личным надобностям — к случайным попутчикам и местным жителям; собирателя древней поэзии — к отнюдь не родовитым обитателям нищающей Горной Шотландии. С каждым из них Скотт говорил на его языке, к каждому умел найти подход, каждого расположить к себе, разговорить и выслушать, не поступаясь при этом собственным достоинством и чтя достоинство собеседника. Особенно прочные дружеские, даже трогательно задушевные узы на протяжении многих лет связывали его с фермерским сыном Уильямом Лейдло, которого он опекал до конца своих дней, и пастухом Томом Парди. Последнего он впервые увидел в селкиркширском суде — молодого человека привлекли по делу о браконьерстве. Скотт взял его в услужение, и со временем Том стал не только самым близким и доверенным слугой писателя, но его верным помощником во всех заботах, исключая литературные, хотя господские сочинения называл не иначе как «наши книги». Он умер раньше своего хозяина, и Скотт горько скорбел об этой смерти. Уилл Лейдло пережил и похоронил Скотта, оставаясь до последнего дня его преданным другом и наперсником.
Не хождение в народ, тем более не снисхождение к народу, а живое и никогда не прерывавшееся с ним общение — такова была естественная позиция Скотта, и для писателя она оказалась чрезвычайно благотворной. «Характер народа нельзя познать по сливкам общества», — как-то заметил Скотт, и во всей обильной Скоттиане до сих пор не подсчитано, сколько ярких и самобытных типов перекочевали в его книги непосредственно из жизни, сколькими меткими словечками и оборотами одарили его простые люди Шотландии. Больше того, без этого врожденного и последовательного демократизма его историческое чутье едва ли смогло отлиться в тот совершенный историзм творческого метода, о котором емко и выразительно сказал Дайчес в связи с романом «Уэверли»: «Обыкновенные люди, подхваченные историческими событиями, к которым они непричастны и которых зачастую до конца и не понимают, действуют соответственно их характеру и обстоятельствам. И часто именно эти обыкновенные люди, изъясняющиеся на простонародном шотландском диалекте с абсолютно достоверной и волнующей непосредственностью, воплощают у Скотта истинное направление исторического развития».
Приведенное суждение говорит о том, что понимание британским исследователем значения творчества Скотта и новаторства его художественных открытий в основе совпадает с концепцией, выработанной по этим проблемам передовой русской и советской критикой. Литературные оценки и наблюдения Дайчеса вообще опираются на исторический контекст и поэтому отмечены той мерой непредвзятости и объективности, какую мы не всегда находим и в признанных, ставших классическими биографиях Скотта, начиная от многотомного жизнеописания, принадлежащего перу его зятя и «молодого друга», как в письмах называл его писатель, Уильяма Гибсона Локхарта, и кончая книгой X. Пирсона и трудом Э. Джонсона.
Последние, особенно Пирсон, подчас склонны модернизировать восприятие наследия Скотта, и в силу этого некоторые его творения выглядят у них не совсем так, как они представлялись современникам, воспринимались в литературном процессе эпохи или смотрятся в историко-литературной перспективе. Порой дело доходит до критических курьезов, как, например, у Пирсона, с очевидным пренебрежением отзывавшегося о «Уэверли» («утомительный и скучный роман») и перечеркнувшего «Айвенго» («читать вообще невозможно»). У Локхарта смещение в противоположную сторону: стремясь канонизировать — в духе времени и из лучших родственных чувств — Скотта как личность, он невольно канонизирует его книги и литературное окружение.
Дайчес счастливо избегает обеих крайностей, подходя к творчеству и личности своего «героя» как к явлению совокупному, принадлежащему своему времени, но отнюдь не утратившему ценности и для нашего. Вероятно, поэтому его внимание в окружении и симпатиях Скотта привлекают фигуры художников, так же значительных и для той эпохи, и для современности: Бёрнса, Вордсворта, Байрона, — и это внимание распределяется сообразно с подлинными масштабами литературных величин. Но объективность вдумчивого литературоведа порой вступает тут в известное противоречие с реальными фактами биографии Скотта, как, скажем, в случае с Джоанной Бейли. Многолетнему другу и корреспондентке писателя он уделяет меньше строк, чем описанию двух случайных встреч юного Скотта с Бёрнсом. Создательница драм в стихах, Джоанна Бейли вошла, понятно, в историю английской литературы, но занимает она в ней куда более скромное место, чем занимала в жизни и привязанностях своего великого современника. Однако «мир» Вальтера Скотта без нее так же неполон, как без Байрона или Тома Парди.
Но та же критическая объективность, от которой «пострадала» в очерке Дайчеса Джоанна Бейли, позволяет автору выдержать высокую беспристрастность по отношению к самому Скотту — точно определить сравнительную ценность его поэтического и романного наследия, дать лапидарные и доказательные критические «портреты» отдельных произведений, раскрыть противоречие между стилем работы и конечным ее результатом: «Он часто писал небрежно и бездумно. В то же время он принадлежал к тому роду авторов, кто, когда материал по-настоящему захватывает их воображение, бывает способен — безотчетно или полуосознанно — удивительно глубоко проникать в суть взаимосвязей между сиюминутным человеческим существованием и ходом истории. Он, можно сказать, был великим романистом вопреки самому себе».