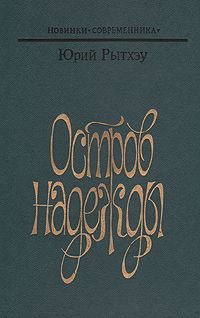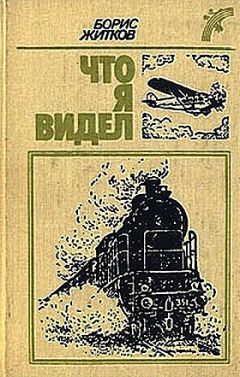Юрий Герт - ВРЕМЯ И ЛЮДИ
Намерение это возникло в студенческие годы, т.е. в конце сороковых — начале пятидесятых, когда подобные мысли считали ересью, достойной аутодафе... И вдруг на должность редактора молодежной республиканской газеты понадобился мыслящий, образованный, смелый человек — личность! Кому-то там, наверху, понравилась его проблемная статья, высказанный в ней прогноз оказался верным, вчерашние противники — посрамленными... В цепочке намеченных, «провентилированных» на всех уровнях кандидатур появляется новая, неожиданная — и Зенюк становится редактором. «Год меня не тронут,— говорил он,— тронуть раньше — себя скомпрометировать... А дальше к чему загадывать? Дальше — что ни случись — все равно все там будем!..» Это была его любимая фраза:
«Все там будем...» И за год газета ожила, получила направление — т.е. свершилось из ряда вон выходящее! Задора, наскока, петушиности было, правда, на ее страницах хоть отбавляй. И вместе с тем — печатались прекрасные стихи молодого Олжаса Сулейменова — о боли казахской земли, в недалеком прошлом превращенной для многих и многих в подобие концлагеря. Публиковался материал о Солженицыне, после освобождения преподававшем в школе, кажется — в Семипалатинской области. И в обычных однодневках тоже постоянно бился пульс фрондерской газеты, намеренно идущей поперек усиливающегося день ото дня течения. После переезда в Алма-Ату мы часто встречались, дружили семьями — и когда Зенюк уже перестал быть редактором, его сместили, он ушел в АПН, писал обкатанные, стерильные статейки в духе начавшегося «застоя», много пил, мечтал о великом будущем Сибири, клялся, что исполнит завет своей юности — напишет книгу о русском декадансе... Но в ту пору, когда мы встретились, все это было еще впереди, и мы сидели, спорили о будущем страны, о Хрущеве, Китае, абстракционистах, и я восторженно холодел, внимая дерзновенным планам, дивясь эрудиции, бесстрашию, изяществу речей удивительного редактора...
После Зенюка наступило знакомство с Ануарбеком Шмановым, как его все называли, а для меня — Ануарбеком Нажметдиновичем Шмановым, поскольку был он чуть старше по годам, и зам.зав. отделом культуры ЦК КП Казахстана, в кабинет к нему привел меня Николай Ровенский.
О Шманове в Алма-Ате говорили, как о чуде. Говорили — и тут же светлели, улыбались, редактрисы в издательстве складывали на груди руки — ладошка к ладошке, вскидывали глаза: «Ах, Шманов!..» Он встретил нас внизу, в вестибюле, ядовито пошутил насчет порядков, заведенных «еще при культе личности» «в этом доме», словно испытывая неловкость за милиционера у входа, за пропуска... И повел, стремительно шагая вверх по лестнице, а в кабинете, где и главный — письменный, рабочий стол, и приставленные к нему столики были завалены горой то раскрытых посредине, то щетинящихся закладкими книг, не сидел ни минуты, расхаживал вперевалочку, двигал стулья, добывал откуда-то из груды книг нужную и тут же обращался к другой... То есть он, конечно, и присаживался на минуту или две, но мысли его набегали одна за другой и были так ярки, необычны, текли таким бурным потоком, что казалось — и сам он все время находится в движении.
Он говорил, посмеивался, цитировал то Гегеля, то Канта (потом я узнал, Кант был его коньком, пристрастием со студенческих лет), то Луначарского, то Плеханова, и все к месту, и тонко, и остро... Но я, слушая и тоже ответно пошучивая, смотрел на широкое, добродушное, но не без хитрецы лицо Шманова и думал, что в руках этого человека — судьба романа, моя судьба. В то время мне не приходило в голову, что и здесь, в этом огромном здании, у входа в которое стоят милиционеры, кипят те же страсти, идет та же борьба, и люди здесь — точно такие, как в любом другом месте, победа добра и бескорыстия достается им с ничуть не меньшим трудом. Мне это в те минуты не приходило в голову, но Шманов-то знал, какие мысли бродят в моей наивной, провинциальной голове.
— Не думайте, что все зависит от меня,— усмехнулся он, прощаясь.— Но если бы мне пришлось рискнуть своим креслом... Что ж, партийный работник должен быть готов ко всему!
И он рискнул. И потом рисковал, ,мне известно, по многим поводам. Из чего можно заключить, что казахскому характеру способность к риску присуща ничуть не меньше, чем русскому. Но я о другом: в изменившихся вскоре обстоятельствах «люди риска» оказались лишними, Шманова отправили в Петропавловск, он и там остался верен себе, но масштаб уже был не тот. А там, где он мог сделать так много, его заменили осторожные, исполнительные, старательно поддакивающие начальству люди, неспособные рисковать.
— И все-таки, Ануарбек,— тоже посмеиваясь, но в то же время достаточно твердо сказал Ровенский,— что касается превращения кантовской «вещи в себе» в «вещь для всех» — тут все ясно. Не ясно, как превратить рукопись из «вещи в себе» в «вещь для читателя», то есть в книгу...
— Ну,— откликнулся Шманов весело и потер руки,— кое-что для этого уже сделано...— Он намекал на Зенюка.— Будем продолжать наши попытки.
Он ничего не обещал, не сулил... Но недолгое общение с ним рождало надежду, почти уверенность — в том, что разумное в конечном счете должно стать действительным, а действительное разумным... Через две недели, уже в Караганде, я получил от Шманова большое письмо, глубокое, остроумное, доброжелательное, усыпанное — «для воздуха» — французскими словечками, утяжеленное выписками из Гегеля со ссылкой на тома и страницы... А вскоре в том же кабинете Шманова было созвано совещание — писатели, издатели, газетчики, подполковник из КГБ... Директор издательства получил гарантии — в случае надобности он мог сослаться на Шманова, Шманов— на авторитет участников совещания.
И тогда, и теперь тем более я понимаю, что дело тут было не столько в моем романе, сколько — в самом времени, в желании отмыться, очиститься от прошлого и уже не возвращаться к нему. И вот — представился повод...
Среди приглашенных к Шманову был упомянутый мною подполковник КГБ Соловьев. Мне было уже известно, что сцены допроса моего героя в органах госбезопасности (в романе действие относилось к 1947 году) не вызвали особого энтузиазма и теперь, в 1963 году, у кое-кого, из сотрудников этого весьма ответственного учреждения. И вот — подполковник... Он единственный усомнился в том, могло ли все происходить так, как это описано в романе. Я сказал — не знаю, могло ли... Но — происходило, это я знаю точно, поскольку происходило это со мной. Но происходило не только такое, сказал подполковник. В органах и в те времена служили не одни палачи и подонки... Но я пишу не об органах,— сказал я. — Органы затронуты лишь в той мере, в какой по сюжету с ними сталкиваются мои герои...— И тем не менее,—сказал он, — возникает обобщение... Черт возьми, но ведь я и хотел, чтобы возникло обобщение!..— Скажи, что ты подумаешь,— тихонько толкнул меня в бок Николай.— Я подумаю...— выдавил я в ярости, но все же выдавил, ведь люди, собравшиеся здесь, искренне силились мне помочь, они чем-то поступались, готовы были поступиться ради меня — и я тоже должен был чем-то поступиться...— Я ни на чем не настаиваю...— сказал подполковник. — Я подумаю,— сказал я.