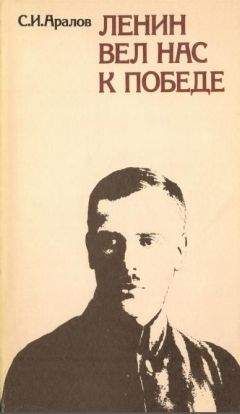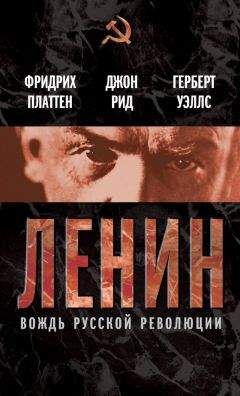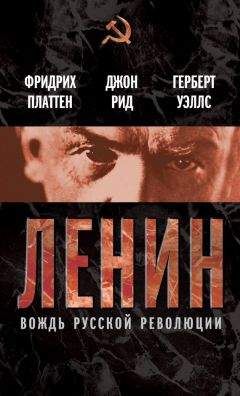Бенедикт Лившиц - Полутораглазый стрелец
В рыбачьих поселках, тянувшихся к морю и к заросшим камышами днепровским гирлам, поражала наружная окраска домов. На нежно-персиковом, на бледно-бирюзовом фоне веерообразный пальмовый орнамент или коленопреклоненное шествие меандра, перекочевавшие с херсонских ваз. Они покоились здесь, на берегу Эвксина, под снежными холмами – широкие расписные кратеры, узкогорлые лировидные амфоры и трогательные пеленашки лекифов, рядом с застывшей навеки радугой ольвийского и пантикапейского стекла.
В других, менее древних курганах Владимир, в летние месяцы вдохновенно предававшийся раскопкам, находил скифские луки и тулы и вооружал ими своих одноглазых стрелков на смертный бой с разложенными на основные плоскости парижанками.
Время, утратив грани, расслаивалось в Чернянке во всех направлениях.
В одном из них оно было еще пространством, только начинавшим оживать. Оно имело всего три измерения и залегало непосредственно за горизонтом. Взоры Бурлюков с благодарной нежностью обращались к этой черте.
Оттуда, из безоглядной степи, где сплошным руном курчавились миллионы овечьих голов, где сотни тысяч племенных свиней самых диковинных пород разрывали почву древней Тавриды, шло богатство.
Оно надвигалось густой лавой, по неисчислимым руслам пролагало себе путь в экономии, из них – в главную контору имения, и то, что оседало, как тончайшая испарина, как естественная утечка, на стенках каналов, призванных регулировать этот бешеный напор, было – уже умопомрачительным изобилием.
Все принимало в Чернянке гомерические размеры. Количество комнат, предназначенных неизвестно для кого и для чего; количество прислуги, в особенности женской, производившее впечатление настоящего гарема; количество пищи, поглощаемой за столом и походя, в междуед, всяким, кому было не лень набить себе в брюхо еще кус.
Чудовищные груды съестных припасов, наполнявшие доверху отдельные ветчинные, колбасные, молочные и еще какие-то кладовые, давали возможность осмыслить самое существо явления. Это была не пища, не людская снедь. Это была первозданная материя, соки Геи, извлеченные там, в степях, миллионами копошащихся четвероногих. Здесь сумасшедший поток белков и углеводов принимал форму окороков, сыров, напруживал мясом и жиром человеческие тела, разливался румянцем во всю щеку, распирал, точно толстую кишку, полуаршинные тубы с красками, и, не в силах сдержать этот рубенсовский преизбыток, Чернянка, обращенная во все стороны непрерывной кермессой, переплескивалась через край.
Семья Бурлюков состояла из восьми человек: родителей, трех сыновей и трех дочерей. Отец, Давид Федорович, управляющий Чернодолинским имением, был выходец из крестьян. Самоучка с большим практическим опытом сельского хозяина, он даже выпустил серию брошюр по агрономии. Его жена, Людмила Иосифовна, обладала некоторыми художественными способностями: дети унаследовали, несомненно, от матери ее живописное дарование.
Кроме Давида и Владимира, художницей была старшая сестра, Людмила. Ко времени моего приезда в Чернянку она вышла замуж и забросила живопись. А между тем десятки холстов в манере Писсарро, которые мне привелось там видеть, свидетельствовали о значительном таланте. Братья гордились ею, хотя еще больше ее наружностью – особенно тем, что на каком-то конкурсе телосложения в Петербурге она получила первый приз. Младшие дочери были еще подростки, но библейски монументальны: в отца.
Третий сын, Николай, рослый великовозрастный юноша, был поэт. Застенчивый, красневший при каждом обращении к нему, еще больше, когда ему самому приходилось высказываться, он отличался крайней незлобивостью, сносил молча обиды, и за это братья насмешливо называли его Христом. Он только недавно начал писать, но был подлинный поэт, то есть имел свой собственный, неповторимый мир, не укладывавшийся в его рахитичные стихи, но несомненно существовавший. При всей своей мягкости и ласковости, от головы до ног обволакивавших собеседника, Николай был человек убежденный, верный своему внутреннему опыту, и в этом смысле более стойкий, чем Давид и Владимир. Недаром именно он, несмотря на свою молодость, нес обязанности доморощенного Петра, хранителя ключей еще неясно вырисовывавшегося бурлюковского града.
У него была привычка задумываться во время еды (еда в Чернянке вообще не мешала никакой «сублимации»): выкатив глаза, хищнически устремив вперед ястребиный нос, он в сомнамбулическом трансе пищеварения настигал какую-то ускользавшую мысль; крепкими зубами перегрызая кость, он, казалось, сводил счеты с только что пойманною там, далеко от нас, добычей.
Узы необычайной любви соединяли всех членов семьи. Родовое начало обнажалось до физиологических границ. Загнанные планетарными ветрами в этот уголок земли, в одноэтажный, заносимый степными снегами дом, Бурлюки судорожно жались друг к другу, словно стараясь сберечь последнее в мире человеческое тепло.
Ноевым ковчегом неслась в бушующем враждебном пространстве чернодолинская усадьба, и в ней сросшееся телами, многоголовым клубком, крысьим королем роилось бурлючье месиво.
Между Бурлюками и всем остальным человечеством стояла неодолимая преграда: зоологическое ощущение семьи. Под последовательно наросшими оболочками гостеприимства, добродушия, товарищеской солидарности таилось непрогрызаемое ядро – родовое табу.
Бурлючий кулак, вскормленный соками древней Гилеи, представлялся мне наиболее подходящим оружием для сокрушения несокрушимых твердынь.
IV
На следующее по приезде утро в Чернянке закипела работа. Шестиоконный зимний сад, давно превращенный в мастерскую, снова ожил после полугодичного затишья. Холсты, оставшиеся от прежних выставок и мирно дремавшие лицом к стене, были вынесены в чулан. Они сделали свое дело, и Бурлюки, не склонные сентиментально заигрывать с собственным прошлым, безжалостно сбрасывали с Тайгетской скалы свои скоропостижно состарившиеся детища. На смену им за две недели рождественских каникул из драконовых зубов инкассовой парижанки, глубоко запавших в чернодолинский чернозем, должно было подняться новое племя.
Огромные мольберты с натянутыми на подрамники и загрунтованными холстами, словно по щучьему велению, выросли за одну ночь в разных углах мастерской. Перед ними пифийскими треножниками высились табуреты, вроде тех, какими впоследствии Пронин обставил «Бродячую Собаку». На полу, среди блестящих досекинских туб, похожих на крупнокалиберные снаряды, босховой кухней расположились ведерца с разведенными клеевыми красками, банки с белилами, охрой и сажей, жестянки с лаками и тинктурами, скифские кувшины, ерошившиеся кистями, скоблилками и шпахтелями, медные туркестанские сосуды неизвестного назначения. Весь этот дикий табор ждал только сигнала, чтобы с гиком и воем наброситься разбойной ордою на строго белевшие холсты.