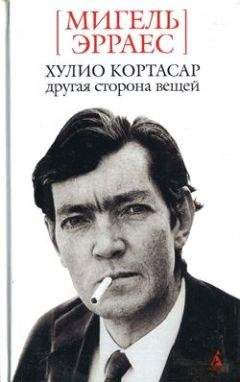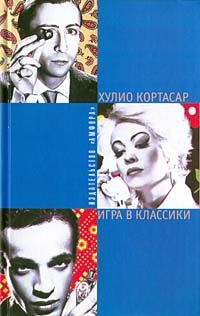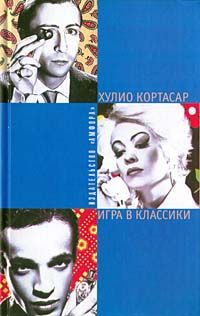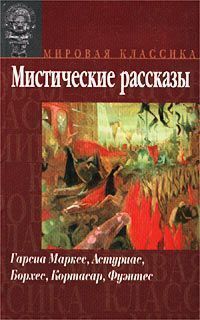Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
Музыка сослужила Казакову добрую службу, однако, как выяснилось, занятия ею не слишком способствовали его образованию и взрослению. «Когда я занимался музыкой, – признавался Казаков впоследствии, – то главным считал не культуру музыканта, а технику, то есть чем лучше ты играешь, тем больше тебе цена. А чтобы играть хорошо, надо шесть-восемь часов заниматься. Потому-то многие прекрасные музыканты инфантильны, чтобы не сказать больше… Словом, мое занятие музыкой сыграло и такую роль: в Литературный институт я поступил, литературу художественную зная на совершенно обывательском уровне…»
Что же касается детства, то, поддаваясь давнему, но не забытому, так и не изжитому до конца душевному гнету, Казаков о своем суровом, нескладном детстве распространяться – повторяю – не любил. И не отличался, как большинство его литературных сверстников, желанием вспоминать о военном лихолетье, хотя Великая Отечественная война в его сознании навсегда запечатлелась как первый грозный рубеж их общей судьбы.
…Ровесники Казакова, люди его поколения, предъявляли войне свой неоплаченный счет. Одни из них детьми узнали унижение плена и каторгу немецких арбайтслагерей, другие вынесли на себе кошмары ленинградской блокады, третьи хлебнули горя, попав в неисчислимые потоки беженцев, и даже те, кто не мыкался по военным перепутьям, а вроде бы сравнительно спокойно жил в глубоком тылу, где-нибудь в алтайской деревне или на далекой сибирской станции, не могли не слышать каждодневного дыхания фронта. Как бы по-разному ни складывались их личные биографии, чувство общей судьбы, чувство пережитой в детстве несправедливости и обиды никогда не покидало их.
Чем обернулась для них война?
Василий Шукшин:
«В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами… Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима!..»
Виктор Конецкий:
«На рубеже сорок первого и сорок второго годов за хлебом в булочную надо было отправляться рано утром, до открытия. Иначе можно было остаться и без ста двадцати пяти граммов. Света в коридоре и передней не было. На вход и выход мы пробирались, ощупывая в темноте трупы, сложенные вдоль стены. Несмотря на уличный мороз в квартире, запах разложения был. И страх перед трупами сохранялся, но тусклый страх, монотонный, страх без страха перед неожиданным испугом, страх перед мразью тления…»
Анатолий Приставкин:
«Нас было в спальне одиннадцать человек. У каждого из нас на фронте был отец. И при каждой похоронке, приходившей в детдом, одиннадцать маленьких сердец замирали. Но черные листки шли в другие спальни. И мы облегченно вздыхали и начинали опять ждать отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало всю войну…»
Виталий Семин:
«Почти все лагерные полицейские были пожилыми людьми. Они подошли к тому возрасту, за которым человека в Германии называют „опа“. Опа – дед, старик, старина, отец… Опы действовали быстро, жестоко и весело. Били не только гумой – резиновой палкой, но ногами, руками и тем, что в этот момент попадало под руку. Тогда я понял, что такое выворачивающая душу ненависть. Душа выворачивалась именно оттого, что, как сказали бы теперь, разрушалась вся система моей ориентации в этом мире. Обманывали вернейшие, определяемые самим инстинктом признаки благоразумия, снисходительности, доброты…»
Так свидетельствовали они сами, и это от их имени говорил на одном из писательских съездов Евгений Евтушенко: «Наше поколение по возрастной причине не участвовало в Великой Отечественной войне, но горечь первых отступлений, страдания под гнетом оккупации, блокадный голод, липкий хлеб эвакуации пополам с полынью и лебедой, шелест похоронок в руках наших матерей, смертельный страх потерять продуктовые карточки, спрятанные в холщовый мешочек на шее, – все это было суровой начальной школой нашего поколения. Когда нам не хватало тетрадок, мы писали диктанты на газетах, между строк сообщений Информбюро, и мы были сами похожи на эти хрупкие, неуверенные буковки между строками истории нашего народа… Война унижала нас голодом, холодом, нищетой, и в то же время война возвышала нас ощущением причастности к истории, ощущением самих себя как части великого народа, единого в своем стремлении к победе. Мы – дети Великой Отечественной войны, мы – это зеленые, еще некрепкие побеги на древке знамени Победы, водруженного над рейхстагом…»
Зеленые, еще некрепкие побеги…
Да, они рано узнали, что такое голод и холод, что такое печаль бездомья и тоска военного неуюта. Они рано увидели смерть вблизи, испытали страх перед ее тупой силой, росли они чаще всего без отцов, без требовательной мужской заботы, на всю жизнь уверовав в непререкаемую женскую опеку, в самоотверженную (иногда до деспотизма) любовь матерей. Ожесточаясь и дичая, они воспринимали войну обнаженной, ранимой душой подростков – и потому острее и трагичнее взрослых.
Не солдаты-победители, а удрученные своим бессилием дети, страдающие оттого, что судьба не позволила им распрямиться во весь рост в самую нежную пору их становления, позабыв их между строками истории. Они знали о войне свою, лишь им одним ведомую правду, они яростно ненавидели фашизм и рано или поздно должны были рассказать об этом в своих книгах. Память о войне, о своем попранном детстве позвала их в литературу.
Стоит перечитать рассказы, повести и романы Виталия Семина и Владимира Ляленкова, Виктора Голявкина и Рида Грачева, Виктора Конецкого и Глеба Горышина, Василия Шукшина и Василия Белова, Майи Ганиной и Майи Данини, Эдуарда Шима и Георгия Семенова, Михаила Рощина и Анатолия Приставкина, стоит припомнить стихи Глеба Горбовского и Евгения Евтушенко, посмотреть фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», – и будет ясно: им выпало на долю соприкоснуться с историей в «минуты роковые»…
Казаков в ноябре 1959 года писал В. Ф. Пановой: «Я в Москве был всю войну и уверен, что война в огромном городе имеет особенный привкус, особенную страшность, потому что, когда миллионы людей катастрофически падают из нормальной жизни в ненормальную, это что-то более гнетущее, чем взрывы бомб и снарядов в поле, в лесу, по деревням, словом – война пространственная. Да, когда большой город погружается во тьму, а дети в муках сравниваются со взрослыми, это потрясает…»
Будучи крайне требователен к себе, Казаков осторожно, но все-таки примеривался к жгучему военному материалу, задумываясь как раз над участью того человека, который оказался в детстве между строками истории.