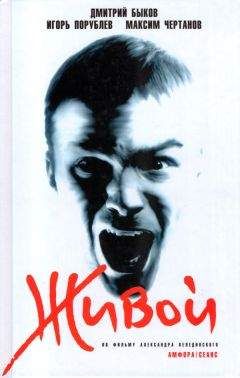Дмитрий Быков - Вера Панова
Но главное в Пановой, разумеется, не то, «про что», а то, как строится абзац, фраза.
Как и Нилин, которого тоже не грех перечесть, Панова — чудо стиля, а стиль и есть мораль, потому что стилю, по определению Хармса, присуща «чистота порядка».
Три источника и три составные части этой стилистики видятся мне так. Во-первых, это репортаж, газетная школа, акцент не на показе, а на пересказе, вынужденно беглом и лапидарном; масштабных картин природы, описаний, призванных продемонстрировать авторские живописные способности, нет. Читатель должен быстро, уколом, почувствовать главное — и мчаться дальше. Не роман, а «Конспект романа», как называется одна из лучших пановских повестей, которая лишь внешне — про то, как поссорившаяся с невесткой женщина средних лет ушла из дома и встретила любовь. На самом деле она — про эволюцию жанра. В этом смысле проза Пановой — та же музыка: про что симфония Моцарта или Малера? Если угодно — про всю вашу жизнь, как, скажем, «Итальянский концерт» Баха, ч. 2, — про то, как я зимой иду из школы и вижу снегирей; но на самом деле они про соотношение таких-то и таких-то музыкальных тем, про сложные взаимоотношения ля и фа. И у Пановой главное происходит не в лексике, а в ритме фразы, который сообщает читателю и о пейзаже, и о характере или внешности героя, и о погоде вокруг. Эта репортерская школа — быстро и незаметно прописывать фон, главное внимание уделяя диалогу и событию, — сформировала целое поколение советских прозаиков, и Трифонов, по собственному признанию, учился писать на спортивных репортажах, передавая атмосферу матча с помощью все того же ритма.
Вторая составляющая — кино, с которым Панова была теснейшим образом связана, почитай, лет двадцать. Лучшая, вероятно, картина по ее сценарию — «Рабочий поселок» Венгерова (на котором дебютировал вторым режиссером Алексей Герман). Это тоже умение ничего не объяснять, сосредоточиться на ритме — уже в чередовании эпизодов, на речевых характеристиках, на быстрых, как музыкальное опять-таки обозначение moderato или fortissimo, обозначениях настроения: «стало грустно», «было темно и страшно». «Кино» все-таки происходит от кинематики, движения, а у нас об этом сплошь и рядом помнить не хотят.
И третья — совсем неожиданная — подспудная тема: Панова все-таки росла и воспитывалась в большом имперском городе начала века, она застала Серебряный век, читала с детства не только Чарскую, но и своего любимца Леонида Андреева, и Сологуба, и — уж обязательно — Блока, которого чуть не всего знала наизусть. И у них научилась символизму, то есть обобщению, то есть умению не все сказать вслух; впоследствии возник, как называла это Нонна Слепакова, «советский символизм» — то есть вынужденные недоговорки, умолчания и обобщения; но, диктуясь чисто политическими моментами, это превратилось в прием, привело к образованию мощнейшего подтекста в прозе Трифонова, Казакова, Стругацких (еще нельзя не назвать Фриду Вигдорову, Сусанну Георгиевскую — они этим же приемом владели в совершенстве, а ведь на них воспитывались именно подростки). Помимо символистской поэтики умолчаний, которая младо-символистам помогала казаться таинственными, а их советским ученикам — избегать столкновений с цензурой, для литературы Серебряного века характерно было благородное, продиктованное заботой о новом широком читателе стремление: писать увлекательно, на сильном материале. Панова не пишет о повседневности, считая ее суетливой; она говорит о том, что, по ее определению, «вдавилось в сердце». Рутина и быт даны у нее фоном, в кратком и беглом пересказе — действие ее прозы всегда происходит во время мировых катаклизмов, всегда связано с эсхатологическими предчувствиями, а если речь идет о сравнительно мирных пятидесятых — шестидесятых, она старается изображать сильные мелодраматические коллизии, как в изумительной судебной зарисовке «Шура, Маня и Аня». Писать интересно, то есть так, чтобы события, настроения, темпы менялись по ходу текста быстро и на первый взгляд гладко, она училась у журнальной, в том числе и массовой, литературы девяностых и девятисотых.
Вот это причудливое смешение советского репортажа, кинематографической эстетики и Серебряного века дало нам прозу Веры Пановой — в которой содержание, страшно сказать, в самом деле бедней, незначительней формы.
Вера Панова за рабочим столом. 1958 годА в форме этой — сразу несколько важнейших сообщений, которые мы считываем подсознательно, потому что они невербальны. Так интонация, голос для нас важнее сути сообщения: если кто-то нас ласково ругает — это душеспасительней, целительней, чем если кто-то грубо, фальшиво, с тайной ненавистью хвалит. Вот Панова и берет именно голосом, интонацией — суровой, глубоко таящей сентиментальность; берет аскетической, восходящей к двадцатым годам, лаконичной фразой, часто — коротким, в два предложения, абзацем: ее проза помнит опыт Шкловского, у которого плотность мысли такова, что членение прозы на фразы-абзацы не воспринимается как искусственное. Тут есть и «скрытая теплота», и отказ от любых излишеств, и романтическая вера в нового человека (для которого это и пишется — ведь у него мало времени, он вечно куда-то едет или что-то строит, него на себя, на любимые удовольствия вроде чтения хорошо если час личного времени). Тут есть истинно ленинградское благородство подчеркнутого внимания к форме, забота о полном отсутствии лишнего — Ахматова, скажем, так писала литературоведческие статьи, да и мемуары, пожалуй. Никаких введений, долгой экспозиции: такой-то ехал туда-то — и понеслась. Если поезд идет с юга, с курорта, то — смуглые руки студенток на простынях казались почти черными. И вот вам весь этот южный августовский поезд, доедающий черешню, соскучившийся по Москве и одновременно не желающий возвращаться к осени и работе.
Героев зовут по фамилиям или прозвищам. Глава — не больше страницы, а уж если больше, то в нее напихано столько событий, что читатель не все упомнит. Чувства не описываются и даже не называются — а что-нибудь вроде: «Поначалу обмерла, когда Игорь предстал перед ней, ростом в сажень, на лице все большое, мужское: нос, рот, щеки, складки вдоль щек. Желтые волосы стекали на грудь и плечи. Руки белые были, длиннопалые. Он к ней потянулся этими руками, она вскочила, распласталась по стене, каждая жилка в ней боялась и билась.
А он смеялся и манил ее длинными руками, и она, хоть и дрожала все сильней, тоже стала смеяться и пошла к нему в руки».
Это «Легенда об Ольге», где источниками Пановой служили русские летописи с их мужеством и почти перечислительным лаконизмом.
Но, конечно, стилем ее вклад в русскую прозу не ограничивается. Она лучше многих понимала, что светлого и всеискупающего выхода из советского периода не будет; что погибнет все — и дурное, и доброе. Это предчувствие краха разлито по всей повести «Кто умирает»: а кто, в самом деле, умирает? Да империя же. Сейчас Иван IV, наследник, сделает с ней такое, после чего не воскресают. И после Смуглого времени, о котором она написала последнюю свою «историческую мозаику», Русь будет уже необратимо другая. И после тридцатых-сороковых, описанных и частично предсказанных в «Котором часе?», тоже будет другая. Кто умирает? Все умирают за грехи одного властолюбца; никакого избавления нет — есть общее возмездие и после уж — новое начало. В «Другой жизни» это сказано, по сути, открытым текстом: будет не возрождение, а перерождение.