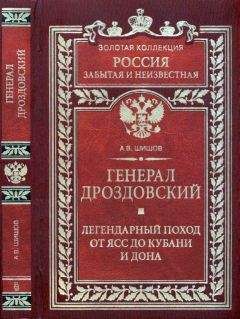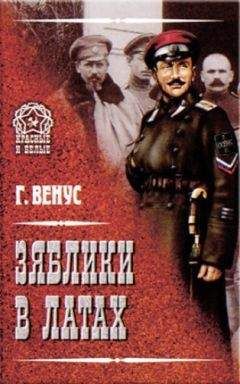Георгий Адамович - Наши поэты: Георгий Иванов. Ирина Одоевцева. Памяти Георгия Иванова
Невольно возникало недоумение: как, этот иссохший, изможденный до неузнаваемости человек — это Георгий Иванов, тот самый Жорж Иванов, которого я знал сорок лет, нет, даже не сорок, а больше, почти полвека. Он старался быть прежним, шутил, острил, расспрашивал о литературных мелочах и сплетнях. Временами как будто хотел, оставив пустяки, сказать что-то важное, нужное. Но мы с женой его, Ириной Владимировной Одоевцевой, перебивали его, чувствуя, что, если этот «важный» разговор поддержать, он поймет, что дело плохо. На прощанье, однако, он мне все-таки несколько особенно нужных ему слов сказал, — но об этом после.
А через две или три недели его хоронили. Был жаркий южный лень, в мыслях у меня почему-то неотвязно были тютчевские «кладбищенские» строки — «А небо так нетленно чисто…» Действительно небо было нетленно синим и, как бывает над открытой могилой, будто обещало нетленность иную, ту, о которой обычными, истрепавшимися словами лучше не говорить.
В памяти были, конечно, и первые встречи, дореволюционный, довоенный Петербург, бесконечные ночные разговоры, первые литературные радости и волнения. Познакомился я с Георгием Ивановым на лекции Корнея Чуковского о футуризме, в круглом Тенишевском зале. Помню даже вступительную фразу этой лекции: «Как много у поэта экипажей!» — начал Чуковский с лукавой улыбкой, собираясь перечислить все кареты, ландо и фаэтоны, мелькающие в стихах Игоря Северянина. В публике был верзила Маяковский в ярко желтой кофте с открытой шеей. Давид Бурлюк с деревянной ложкой в петлице… Все были молоды, всем было весело. Футуристы делились на «эго» и «кубо» и взаимно друг друга презирали: первые — несколько жеманные, томные, вторые вызывающе грубые, но по общему безошибочному впечатлению представлявшие собой нечто много более внушительное и серьезное, Гумилев, вечный Дон Жуан, тогда же сказал, заметив понравившуюся ему барышню явно футуристического вида: «Если она «кубо», я готов в нее влюбиться, если «эго» — нет, ни за что».
Это был 1913 год. Георгий Иванов позднее писал:
Все, кто блистал в тринадцатом году.
Лишь призраки на петербургском льду.
Но тогда, в этот последний спокойный и, хочется добавить, последний счастливый русский год (конечно, тогдашнее «счастье» исторически и социально спорно, но это большой, сложный вопрос, которого не следует и задевать мимоходом, и говорю я сейчас только о наших иллюзиях) — тогда почти никто не предвидел «неслыханных перемен, неслыханных мятежей», по Блоку, и казалось, жизнь для того и дана, чтобы радоваться ей и благодарить за нее судьбу. А литература… да, разумеется, литература — это заветы, труд, горение, «священная жертва Аполлону», но Аполлон — божество терпеливое, снисходительное, и что же скрывать, литература со своими спорами, вечерами или беспечными заботами, это и великое развлечение! «Акмеисты должны объявить войну на два фронта, — и против футуристов, и против символистов!» — с бонапартовской боевой решительностью восклицал Гумилев, и как же было в восемнадцать-двадцать лет не найти, что в такой «войне», на два фронта или на один, все равно, очень много и увлекательного, и занятного, и веселого.
Георгий Иванов был неразлучен с Осипом Мандельштамом, одним из самых смешливых — и притом одним из самых умных — людей, которых мне приходилось встречать. Наперебой они сочиняли экспромты, пародии, стихотворные шутки, и Мандельштаму порой никак не удавалось свое очередное произведение прочесть, настолько сильно давил его смех. «Отплытие на о. Цитеру» — первый сборник Иванова — к тому времени уже прочно утвердил его репутацию как одной из главных акмеистических надежд.
Нет, все это было не «давно», это было в другом существовании, в другом мире, отдаленном от нас тысячелетиями. Возраст тут ни при чем. Нашему поколению выпало на долю перенестись именно из одного мира в другой и, едва начав в прежней России жизнь, продолжить и оканчивать се в условиях совсем иных.
Георгий Иванов был крепче большинства, а пожалуй, даже и всех своих сверстников с прошлым связан, болезненнее и труднее с новыми условиями свыкался, и стихи его — красноречивое о том свидетельство.
Он и умирал трудно. Но в последние свои месяцы стал как-то духовнее и просветленнее, чем казалось раньше, и с особой, трепетной, страстной, непрерывной благодарностью отзывался на любовь, терпение и ласку Ирины Владимировны.
О ней и были его последние, особенно «нужные» слова, сказанные шепотом, торопливо, в минуту, когда его жена вышла. Его мучила мысль о том, как будет ей житься одной, без него, в нашей среде, где у каждого — свои заботы и тревоги, где и дружба, и всякие другие хорошие чувства держатся большей частью в границах, существуют лишь «постольку поскольку». Об этом незадолго до смерти составил он записку, обращенную к друзьям литературным, частью, может быть, и неведомым.
Он надеялся на отклик, волновался, что реально и практически ничего уже не может сделать, в чем-то упрекая себя, мучился сомнениями о будущем. Несколькими строками выше я написал, что он не боялся смерти: в этом смысле боялся, т. е. боялся, что жизнь дорогого ему человека сложится после него не так, как ему хотелось бы.
В ответ на любовь он сам весь светился любовью. А мне на все остающиеся дни или годы отрадно будет помнить, что в последнюю свою с ним встречу я видел его именно таким: полным того чувства, которое, в сущности, единственно в человеке ценно.
II. ИРИНА ОДОЕВЦЕВА
«Новый журнал», 1960, №61
Ей было «восемнадцать жасминовых лет», когда я впервые ее увидел, — и эта строчка ее стихотворения, написанного совсем недавно, верно и метко перелает впечатление, оставшееся у меня в памяти. «Восемнадцать жасминовых лет…» Я был старше ее, даже значительно старше, но все мы тогда были молоды, как молод был и Гумилев, усердно старавшийся в качестве «мэтра» казаться умудренным жизнью, опытом, мыслями, отягченным глубокими знаниями, и вдруг неожиданно превращавшийся в обыкновенного «русского мальчика», по Ивану Карамазову, очень талантливого, но несколько простодушного, наивного и в себе не уверенного.
Встретил я Ирину Одоевцеву, зайдя именно на те «студийные занятия», которые Гумилев вел с поэтами еще совсем юными, не начавшими печататься. Он священнодействовал, он как будто приоткрывал какие-то великие и важные тайны, — даже если речь шла о том, что в ямбе ударение приходится на втором слоге, а в хорее на первом, — он холодно отводил возражения и любил вскользь, с небрежным видом, упомянуть, что однажды он указал д'Аннунцио на метрическую ошибку в его строчке, а что Киплинг, помнится, особенно был благодарен ему за другое указание. Гумилев был в жизни приверженцем «театра для себя», причем преувеличивал людскую доверчивость или преувеличивал собственный свой авторитет и престиж, — что и привело к тому, что его считали в Петербурге человеком не умным. Это теперь многих, вероятно, удивит, но подтвердить это могут вес, помнящие те времена и ту литературную среду. Гумилев способен был с серьезным и важным видом говорить, что намерен уединиться, чтобы посвятить лет десять, а то и больше, созданию поэмы, где с математической точностью, на основании им одним полученных сведений, будут изложены грядущие судьбы вселенной или что он готов отправиться во главе отряда добровольцев на завоевание Индии, если «Его Величество даст на эту экспедицию свое высочайшее согласие». Но он был умен, лаже редкостно умен, когда переставал ломаться, т. е. с глазу на глаз или в обществе двух-трех приятелей, на которых — как он твердо знал, — его комедиантство не действовало. Гумилев наделен был даром особой убедительности, правда, — не столько логической, сколько внутренней, духовной, трудно поддающейся определению. Не случайно же он стал «мэтром», в сущности, без других к тому данных, кроме способности убеждать в своей правоте и даже непогрешимости. Он был к такой роли предназначен и играл ее с веселым задором и блеском, хотя, что скрывать, мало кто из его окружения считал его действительно большим поэтом или, проверяя его суждения о поэзии немедленно вслед за разговором с ним, признавал эти суждения столь же верными, как показались они полчаса тому назад.