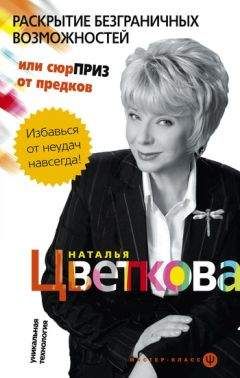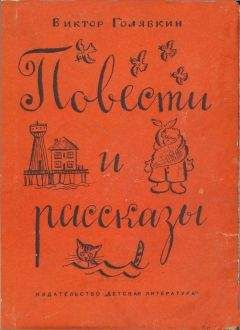Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
Когда мы все вернулись в Москву, он взял меня с собой в отпуск в Сердобск Пензенской области, откуда происходил весь отцовский корень, и мы там с ним бродили по лесу, ловили рыбку и в маленькой избушке на берегу Сердобы, где жили мои бабушка с дедушкой, слушали их рассказы о прежнем крестьянском житье-бытье. Теперь дядя Вася был в неопределенного цвета костюме, косоворотке и с вещевым мешком за плечами. Он, я почувствовал, был ужасно огорчен, просто убит, когда обнаружил, что, кроме меня, никого нет дома. Он сбросил свой мешок с плеч, расстегнул пуговицу на вороте рубашки, сел на кушетку и закурил. Выяснилось, что времени у него в обрез, что через три часа он должен быть на сборном пункте, – мне уже знаком был этот термин, – что зашел попрощаться да вот…
Я сказал, что мама, может быть, еще успеет вернуться, а отца вообще нет в Москве. Он еще до начала войны уехал в командировку, куда точно – не знаю, и что-то вот задержался.
Не помню, убейте меня, о чем еще мы говорили с ним те полтора часа, которые он провел в нашей комнатушке, тесноты которой я тогда, кажется, совсем не ощущал, хотя за последние дни в ней стало еще теснее от массы закупленной продукции.
Помню только, что пили чай, который я подогрел в чайнике на общей для всех двадцати комнат кухне, и грызли бублики, которые были тогда непременной частью чаепития. Наконец, взглянув еще раз на часы, он поднялся и забросил на плечи свой дорожный мешок.
Мы вместе вышли из дома. По соседству с входом (подъездом это никому в голову не приходило называть) соседи, среди которых были и мои дружки, закладывали специально привезенным дерном крышу «щели». Дядя Вася молчал. Я же вдруг ощутил острую потребность что-то сказать ему на прощание. Ведь он, может быть, уже завтра-послезавтра будет на фронте.
Я даже знал приблизительно, что я должен был ему сказать. Я в мои десять лет был заядлым книгочеем. И конечно, гайдаровский Тимур был моим любимым героем. Я даже пытался уже организовать что-то вроде тимуровской команды у нас во дворе, но почему-то не получилось.
Итак, я ощущал необходимость что-то сказать дяде Васе в духе того, что Женя, подруга Тимура, говорила, провожая, своему военному отцу – человеку в длинном кожаном пальто и со шпалами в петлицах. Повторяю, я знал, что сказать, но почему-то слова не шли у меня с языка.
Все же я взял себя в руки и пробормотал что-то вроде того, что «бей врагов как можно больше…». Быть может, я пожелал ему быть героем?
Или обещал, что мы здесь в тылу будем выполнять свой долг? Быть может, я при этом даже посмотрел на крытую черным толем крышу нашего двухэтажного дома, куда мы с ребятами рвались по ночам при звуках воздушной тревоги вместо того, чтобы, как было велено, идти в бомбоубежище, то бишь в почти уже отстроенную «щель»? Может быть, не помню. Помню только, что он, как-то странно посмотрев на меня и выпростав свою правую ладонь из моей левой, сказал:
– Ну, я пошел… Передавай привет…
С ощущением человека, сделавшего что-то не то, я смотрел ему вслед, пока он не исчез за углом, и, словно желая искупить неведомую мне вину, я рванул к своим достраивать «щель».
Не помню, сколькими годами позже я добрался до третьего тома «Войны и мира» и прочитал с внутренним облегчением, что так же трудно и неловко было героически настроенному Пете Ростову в его шестнадцать лет выдавить из себя слова «Когда отечество в опасности», требуя согласия родителей отпустить его в действующую армию.
Когда зимою того же года в Сердобск, куда нас с матерью и младшим братом отправил к своей родне отец, пришла похоронка – Панкин Василий Семенович, военный шофер, пал смертью храбрых при обороне Ленинграда на Ладоге, я рыдал, кажется, не только от горя, но и от стыда. Наверное, с тех пор у меня и появилась аллергия к громким словам.
На ловца и зверь бежит. Когда эти строки были написаны, прочитал в давнем, но только в мае 1999 года опубликованном интервью Юрия Роста с Булатом Окуджавой: «Я не помню, чтобы простой народ уходил на фронт радостно… Война была абсолютно жесткой повинностью».
Тетка Маша, или Бабушкино заклятие
Тетка Маша – так в шабрах, в соседях то есть, звали мою бабушку, Марию Павловну, мать отца. Соседей в ту пору, о которой я хочу рассказать, у них с дядей Семеном, моим дедушкой, было раз-два да обчелся. Что взять с маленького хуторка в трех километрах – и все лесом от Сердобска, на берегу тихой, с плоскими камышовыми берегами в этом месте, реки Сердобы. Когда-то, до раскулачивания, были тут пасеки у крепких крестьян, чьи усадьбы, как они любили их называть, стояли в Пригородной слободе, под самым носом у города.
– Так, для баловства держали, – объясняла мне бабушка, как взрослому, – полдюжины уликов да землянку. А там вишь как обернулось, когда дедушку твово взяли, что было в подсобку, стало наиглавнеющим.
По тем ли, иным ли причинам, главное – укрыться бы от начальственных домогательств, собрались в этих местах глухой да губастый, как бабушка говорила со смехом, утирая платочком сложенный в розеточку рот. Вот диво – хоть и недалеко было от районного центра, но не трогали власти тех, кто здесь поселился. Две бабы-бобылихи, одна бывшая монашенка, тетя Поля, другая в прошлом – депутат сельсовета. Тетя Лена Ермакова.
Дядя Боря с сыновьями Петькой и Павликом, любитель порассуждать о злонамеренной политике Америки, или САСШ, как он называл ее. И вот еще Иван Михайлович Мордвин, который и будет вместе с бабушкой героем этого моего рассказа. Я тогда уже девятый класс закончил и приехал к старикам на каникулы. Свидетелем этой истории я не был, но бабушка так ее рассказывала, что, если бы и сам я все это видел и слышал, так ясно я бы ее не запомнил.
– Смотрю, сосед наш, из мордвинов, ходит по двору. С топором. Свят, свят!
– Ты чего, мол, Иван Михалыч, ходишь?
– Я, тетка Маша, твою кошку ищу. Она моих трусков поела.
– А ты-то почем же знаешь, миленький, что моя?
– Я знаю. К тебе на двор следы привели.
– Да что, у нее какие-нибудь особенные, что ли, следы-то. Да и не одна она тут. Ты вон поди послушай, как они ночью на потолке орут. Может, и твоя там надрывается.
– Твоя кошка, тетка Маша, твоя, – знай себе талдычит. – Представь ее мне, я ее враз зарублю.
– Как же, родимый, так я ее тебе и представила. Ты ее хоть в глаза-то видал? Знаешь, кака она – бела, черна, сера? Кака?
– Я видел, она летось вкруг моей избы ходила. Подавай, я ее убью…
С тем, правда, и ушел. А сам, оказывается, в сельсовет, с жалобой. А те Ленке поручили расследовать.
– Тете Лене Ермаковой, что ли? – спрашиваю.
– Ей, кому ж еще. Она ж у нас в епутатах ходила. Епутатка. Навязалась, прости господи, за поллитру. Кроме как лаяться, ничего более не могет. А уж это-то… Уж она и в сердце, и в легкие, и в печенку, всюду насажает… Я, слышь ты, человек государственный. И вот, значит, идут. Впереди эта Елена преподобная с бумагой в руках, сзади – Иван Михайлович, уже с ружьем.
![Дарья Ардеева - Запретные территории [СИ]](/uploads/posts/books/77022/77022.jpg)