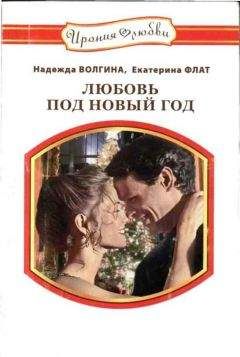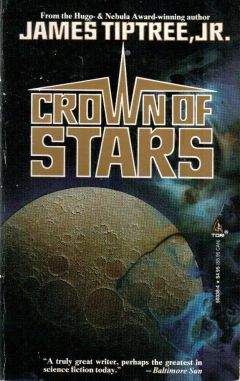Александр Формозов - Рассказы об ученых
Писарева поразил мощный критический ум, всеразлагающий, всеразрушающий, способный всё развенчать, но не собрать воедино, не творить. Ему бросилось в глаза, что профессор всячески избегает обобщений и выдает на лекциях студентам лишь сырой материал, притом почти всегда добытый им самим, не веря опубликованному коллегами. «Сварожич», по словам Писарева, «как человек умный понимал неестественность своего положения, но по всей вероятности он начал понимать её уже тогда, когда дорога была выбрана, когда первые и самые трудные шаги были пройдены и когда, следовательно, поворотить назад и пойти по другой дороге было уже неудобно и тяжело. Он, конечно, никогда не говорил о том, что ему не нравится предмет его занятий… Но всякий мало-мальски внимательный наблюдатель мог заметить, что Сварожич глубоко равнодушен к своей науке и даже невольно относится к ней с легким оттенком скептического презрения»[20].
Может быть, Писарев – сторонник реальных знаний, третировавший гуманитарные науки как «болтовню», в чём-то сгустил краски, приписав учителю собственное восприятие филологии. Но и в воспоминаниях других учеников нарисован образ, во многом похожий на тот, что набросан Писаревым. Так, в мемуарах П.Н. Полевого отмечены огромная «алчность к работе» Срезневского, его колоссальная эрудиция, и наряду с этим – скептицизм, мнительность, недоверчивость к самому себе, мешавшие ему творить свободно. Полевой утверждает, что в частной беседе Срезневский иногда увлекался и излагал какие-нибудь свои интереснейшие концепции, но никогда не публиковал их. Итог таков: для того, чтобы стать великим учёным, у него было всё, но ему «не хватил о бодрости духа»[21]. Всеволод Срезневский в биографии отца прямо называет причиной его всеразъедающего скептицизма неудачное начало с «Запорожской стариной». Опрометчивый поступок романтически настроенного юноши исказил весь жизненный путь на редкость одаренного и трудолюбивого учёного.
* * *Что же, спрашивается, человеческому самолюбию всегда суждено побеждать научную совесть? Нет, это не так. Можно привести случаи, прямо противоположные только что рассказанному, но от этого не менее удивительные. Вот один из них. В школьных учебниках любой страны – будь то Россия, США, Франция или Индия – упоминается имя Евгения Дюбуа (1858–1940) – биолога, отыскавшего недостающее звено между обезьяной и человеком – питекантропа. Громадно по значению само открытие, необычна и его история.
В годы первых триумфов дарвиновских идей молодой голландец задался целью найти теоретически предсказанного Эрнстом Геккелем питекантропа. Решить эту задачу было неимоверно сложно. Где добыть средства на исследования? В каком уголке Земного шара, в каких географических и геологических условиях залегают костные останки наших древнейших предков? Всё было неясно. Дюбуа начал с того, что поступил врачом в голландскую колониальную армию и в 1887 году отправился на Суматру. Тем самым он обеспечил себе «оплату проезда» к месту раскопок и наметил район исследований. Три года копал он пещеры на острове и всюду безрезультатно. У другого давно опустились бы руки, но Дюбуа не сдавался. В 1890 году он перенёс раскопки на Яву и здесь с тем же упорством вел работы еще три года. Тут на реке Соло у Триниля его ждал успех: были найдены черепная крышка, бедренная кость и три зуба примитивного человекоподобного существа. В 1894 году он напечатал книгу об этой находке, но этим завершился лишь первый этап в судьбе открытия и начался второй, наиболее ответственный, – борьба за его признание.
Сообщение никому не известного врача вызвало бурю. Многие авторитетные биологи и среди них знаменитый на весь мир Рудольф Вирхов заявили, что описанные кости принадлежат скорее всего своеобразному гигантскому гиббону и для понимания эволюции человека не дают ничего. Другие учёные поддержали точку зрения Дюбуа. Проблема питекантропа оживленно дебатировалась на трёх международных конгрессах по биологии – в Лейдене в 1895 году, в Кембридже в 1898 и в Берлине в 1901, и только в XX столетии мнение об яванском питекантропе как о переходной форме от обезьяны к человеку стало общепринятым. Дюбуа победил.
Говорят, он не выдержал бремени мировой славы. Жил в Лейдене затворником, никого не подпускал к сейфу с костями, не позволял их вновь измерить, не верил в позднейшие находки на Яве, сделанные Г. Кёнигсвальдом. Это как-то объясняет неожиданный финал его жизни. По прошествии сорока лет после раскопок в Триниле, в 1935 и 1940 годах, Дюбуа опубликовал статьи, в которых вдруг согласился со своими давними оппонентами: да, то, что он нашёл, – всего лишь останки гиббона. Понадобились новые наблюдения и сопоставления, чтобы показать: прав был Евгений Дюбуа 1894, а не 1935 года.
Вероятно, мы никогда не узнаем, что заставило восьмидесятилетнего старика перечеркнуть тщательно аргументированную и им, и его коллегами интерпретацию ископаемых костей и внести ненужную сумятицу в антропологию. Однако сам отказ от прославившего ученого открытия не может не произвести впечатления. Времени на новые открытия у него уже не было. В моих глазах это ставит Евгения Дюбуа как личность выше Измаила Срезневского[22].
Спор о Грановском
В истории нашей культуры имел место ряд ожесточённых споров, обусловленных разными взглядами учёных и писателей на задачи деятелей науки. Сущность споров этим не исчерпывалась, но здесь речь пойдёт лишь о названном аспекте.
Для показательного примера остановлюсь на борьбе мнений вокруг статьи В.В. Григорьева «Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве». Опубликованная в журнале «Русская беседа» в 1856 году[23], эта статья сейчас почти забыта, но отклики на неё перепечатывают в собраниях сочинений А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского[24]. Знаком с нею был, видимо, и Ф.М. Достоевский, заимствовавший оттуда кое-какие детали при создании образа Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах» и при характеристике одного из его прототипов – Грановского в «Дневнике писателя»[25]. В самый момент полемики большое впечатление на читателей произвели фельетоны Н.Ф. Павлова «Биограф-ориенталист» и К.Д. Кавелина «Слуга»[26]. Из-за чего же ломались копья?
Товарищ Тимофея Николаевича по Петербургскому университету востоковед Василий Васильевич Григорьев (1816–1881), в будущем профессор этого же университета и член-корреспондент Академии наук, жил в ту пору далеко от центров русского просвещения. Не сумев найти себе места в столичных учебных заведениях, он вынужден был в 1851 году поступить на службу в Оренбург начальником пограничной экспедиции. Поневоле став чиновником, он старался не прекращать научные и литературные занятия. Когда после смерти Грановского в журналах появились первые воспоминания о нём, Григорьев разыскал в своем архиве письма покойного и на их основе попытался рассказать о его молодости.