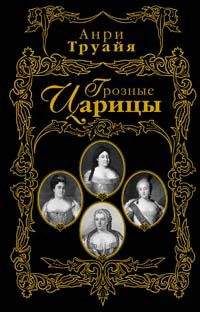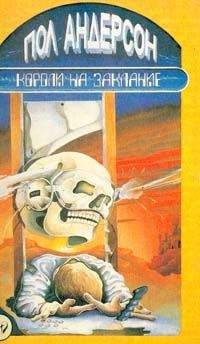Валерий Демин - Циолковский
«Многие думают, что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о её судьбе из-за самой ракеты. Это было бы грубейшей ошибкой. Ракеты для меня — только способ, только метод проникновения в глубину Космоса, но отнюдь не самоцель (…). Недоросшие до такого понимания вещёй люди говорят о том, чего в действительности не существует, что делает меня каким-то однобоким техником, а не мыслителем» (выделено мной. — В. Д.).
Циолковский как в воду глядел: в подавляющем большинстве биографий он представлен именно как «однобокий техник», а не мыслитель мирового масштаба, коим он себя осознавал с ранних пор. Сызмальства, так сказать, он всеми фибрами души ощущал свое нетривиальное предназначение и был уверен в собственной гениальности. В юношеские годы не побоялся письменно известить девушку, в которую влюбился: «Я такой великий человек, которого ещё не было и не будет». Две принципиально важные и рубежные работы его (к ним ещё предстоит обратиться) посвящены проблеме собственной гениальности — «Горе и гений» (1916) и «Гений среди людей» (1918). Несмотря на скудность материальных средств и напряженность социальной обстановки (империалистическая и Гражданская война), он сделал всё, чтобы опубликовать их отдельными брошюрами за собственный счет.
* * *Он всегда был беспощаден к себе — черта, свойственная большинству гениальных людей, — но обнажал душу только перед самим собой, скрывая от посторонних муку и боль. За внешней невозмутимостью старца с проницательным взглядом, похожего на библейского пророка, каким представляется Циолковский по поздним фотографиям, скрывался водоворот необузданных и неудовлетворенных страстей. Сам он так писал о себе:
«Характер у меня вообще, с самого детства, скверный, горячий, несдержанный. А тут глухота, бедность, унижение, сердечная неудовлетворенность и вместе с тем пылкое, страстное до безумия стремление к истине, к науке, к благу человечества, стремление быть полезным (…)».
«Сердечная неудовлетворенность» — это особая глава в биографии великого человека. Вопреки расхожему мнению, он был пылким, влюбчивым, метался между постоянным влечением к красивым женщинам и чувством долга перед женой и семьей. Впрочем, раздвоенность души и метания духа приносили не только страдания, они являлись стимулом для новых творческих исканий:
«Женитьба эта тоже была судьбой и великим двигателем. Я, так сказать, сам на себя наложил страшные цепи. В жене я не обманулся, дети были ангелы (как и жена). Но половое чувство неудовлетворенности — самой сильнейшей из всех страстей — заставляло мой ум напрягаться и искать…»
Проще говоря: не было бы многих и пылких увлечений — не было бы той страстности, которой пропитаны многие работы Циолковского. Великое (космическое по своей природе) чувство любви окрыляет человека, пробуждает в нем дремлющие потенции. Без вдохновения (а его в мужчине может пробудить только женщина — и не одна) не было бы ни Гёте, ни Байрона, ни Пушкина, ни Тютчева, ни Есенина. Перечень можно продолжить и именами многих художников, композиторов, ученых, политиков, полководцев. По правилам, установленным самой природой, вожделение должно реализоваться в соитии двух сторон. Но случается и иначе: влечение и влюбленность, не встречая ответа, оказываются односторонними. Неудовлетворенная страсть порождает ещё большую страсть, но уже в ином проявлении. Разбуженная космическими силами и рожденная в лоне Вселенной нерастраченная энергия, неуклонно требуя удовлетворения, находит в таком случае выход в творчестве, материализуя на практике высшие идеалы. Таковой была всепоглощающая любовь Данте к Беатриче, которую поэт видел всего-то четыре раза, но навечно обессмертил в «Новой жизни» и «Божественной комедии». Циолковский стал носителем и выразителем подобной же космической любви и страсти:
«Меня тянуло к женщинам, я непрерывно влюблялся, что не мешало мне сохранить не загрязненное, не запятнанное ни малейшим пятнышком наружное целомудрие. Несмотря на взаимность, романы были самого платонического характера, и я, в сущности, ни разу не нарушил целомудрия (они продолжались до 60-летнего возраста)».
К сердечным страданиям добавлялось чувство беспомощности и униженности от глухоты, ещё в детстве (после заболевания скарлатиной) лишившей Циолковского нормального контакта с миром, с людьми:
«Глухота — ужасное несчастье, и я никому её не желаю. Но сам теперь признаю её великое значение в моей деятельности в связи, конечно, с другими условиями. Глухих множество. Это незначительные люди. Отчего же у меня она сослужила службу? Конечно, причин ещё множество: например, наследственность, удачное сочетание родителей, счастливое оплодотворение яйцеклетки, гнет судьбы. Но все предвидеть и понять невозможно. Человек выходит не в отца, не в мать, а в одного из своих предков.
Но что же сделала со мной глухота? Она заставляла страдать меня каждую минуту моей жизни, проведенной с людьми. Я чувствовал себя с ними всегда изолированным, обиженным, изгоем. Это углубляло меня в самого себя, заставляло искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть столь презираемым. (Мне всегда казалось, что за глухоту меня презирают. Да так оно и было, хотя принято скрывать презрение к больным и уродам.)».
Глухой человек ощущает собственную неполноценность в неменьшей степени, чем слепой. Но если к слепым окружающие обычно проявляют сочувствие и жалость, то по отношению к глухим демонстрируется нередко странная снисходительность, которая в конечном счете заставляет плохо слышащего (и тем более — совсем не слышащего) осознавать унизительность своего положения и, как следствие, — избегать излишних контактов и замыкаться в себе. Однако глухота (калечество — как он сам выражался) обернулась для Циолковского неожиданным благом. Сторонясь сверстников, он обрел других верных друзей — книги, позволявшие ему непрерывно заниматься самообразованием.
«Книг было, правда, мало, и я погружался больше в собственные свои мысли. Я не останавливаясь думал, исходя из прочитанного. Многое я не понимал, объяснить было некому и невозможно при моем недостатке. Это тем более возбуждало самодеятельность ума. Глухота, заставляя непрерывно страдать мое самолюбие, была моей погонялой, кнутом, который гнал меня всю жизнь и теперь гонит, она отделила меня от людей, от их шаблонного счастья, заставила меня сосредоточиться, отдаться своим и навеянным наукой мыслям. Без нее я никогда бы не сделал и не закончил столько работ».
* * *«Наперекор всему!» — вот два слова, которые могут служить эпиграфом ко всей жизни Циолковского. Наперекор — болезни и глухоте, насмешкам сверстников (в детстве и юности), непониманию семьи (до конца жизни), неверию окружающих, скептицизму коллег, тупому противодействию чиновников, проискам врагов и оголтелому шельмованию (которое не прекратилось и в наши дни). Бунтарский дух как главную черту основоположника теоретической космонавтики отметил и А. Л. Чижевский: «В своих мечтах и творениях Константин Эдуардович был бунтарем, непокорным и непокоренным, независимым и храбрым до безумства. Чтобы бросить в мир столько смелых и новых идей и истин, надо обладать великой дерзостью мысли». Одну из глав в воспоминаниях о своем старшем наставнике и учителе Чижевский так и назвал — «Наперекор».