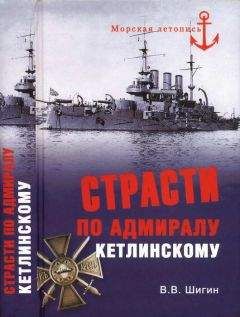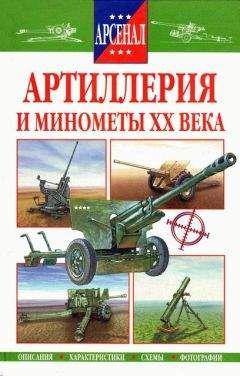Валерия Троицкая - Телеграмма Берия
И тогда я решила, что должна найти какие-то пути, совершить какие-то поступки, в результате которых удалось бы вернуть папино дело в Большой Дом. В то время я наивно полагала, что в этом случае состоится справедливый суд.
Как мне стало известно позднее, папа, в частности, обвинялся в том, что он якобы в разговоре с кем-то сказал, что крестьянину следовало бы разрешить иметь две коровы. Сейчас это звучит совершенно обычно, более того, возникает вопрос, почему две, а не три, не десять, но в те страшные времена человек, сделавший такое заявление, рассматривался как враг советской власти.
Так или иначе, ему было предъявлено это обвинение, вероятно среди ряда других, которые мне остались неизвестны. И его судьба оказалась в руках Тройки.
Я уже несколько раз ездила в Москву, пытаясь добиться той информации и таких действий «из Центра», которые помогли бы принять единственно правильное решение с моей точки зрения, то есть выпустить папу из тюрьмы. Денег у меня было мало, и, как правило, я ездила в общем вагоне на третьей полке.
Останавливалась я в доме Петра Леонидовича и Анны Алексеевны Капица на Воробьёвых горах. Мою маму Марию Владимировну с Петром Леонидовичем связывала дружба, начавшаяся с детских лет в Кронштадте и продолжавшаяся всю жизнь.
В конце тридцатых годов положение Петра Леонидовича — академика, физика с мировым именем, впоследствии получившим Нобелевскую премию, было весьма влиятельным. Свидетельством этого специального положения было наличие в его кабинете так называемой «вертушки».
По «вертушке» можно было позвонить напрямую членам правительства и Центрального Комитета Партии, часто минуя секретариат. Рядом с этим телефоном лежала небольшая книжечка, в которой были указаны телефоны этих лиц.
Приехав в Москву после получения информации о том, что папина судьба в руках Тройки, и остановившись, как обычно, у Капиц, я решила снова связаться с М. М. Литвиновым.
Мне представлялось, что ситуация приняла конкретный, зловещий характер, и я наивно полагала, что в этом случае он не сможет отказать мне в содействии.
Мысль о его полной беспомощности мне просто не приходила в голову. Мне казалось, что сведения о том, где находится папино дело, дают мне право вновь обратиться к моему депутату, потому что стало известно, что делать и куда обращаться.
Я нашла в книжечке его телефон и стала ему звонить по «вертушке». Однако дозвониться до него лично я не смогла, но в конце концов мне ответил чей-то голос.
Я попросила передать М. М. Литвинову, депутату нашего района в г. Ленинграде, что Лера Троицкая просит его срочно позвонить ей по телефону. И что в течение ближайших трёх дней она будет ждать его звонка днём, с часу до двух.
Номер телефона, который я дала, принадлежал нашим близким московским друзьям, Владимировым, жившим недалеко от станции метро «Красные Ворота». Наше знакомство с ними началось с моих ранних, детских лет, когда, роясь в песке на берегу реки Псел на Украине, я неожиданно нашла золотое кольцо с большим бриллиантом, которое они потеряли за десять дней до этого.
Мне казалось, что таким образом я как-то поступаю правильнее по отношению к Капицам, которые были очень на виду. Владимировы, которым я заранее сообщила о своих планах, с готовностью согласились на такое использование их телефона. Конечно, в то время это согласие тоже было «поступком», на который далеко не все были способны.
На следующий день я сидела и ждала этого звонка в назначенное время. Звонка не было. Литвинов позвонил на второй день, и я сказала ему: «Послушайте, вы же наш депутат, мы за вас голосовали, и кто же, как не вы, должны мне помочь уже в конкретном, правом деле — вернуть дело в суд».
Литвинов выслушал меня и ответил: «Я постараюсь вам помочь, но я совершенно не уверен, что я смогу что-либо сделать».
Голос у него был глухой, безрадостный, гнусавый — возможно, простуженный. Он снова и снова повторял, чтобы я действовала сама, ничего не говоря о том — как же действовать.
На мои прямые вопросы, к кому и куда обращаться, он отвечал уклончиво и никаких имён и мест не назвал. Затем он очень вежливо закончил разговор и несколько туманно и завуалированно пожелал мне успеха.
Вот и всё, что мог сделать для нашей семьи известный дипломат М. М. Литвинов. Но кто жил в те годы, тот понимает, что даже согласие на такой разговор был с его стороны актом гражданского мужества.
Я долго думала и пришла к выводу, что, если никто не может мне сказать, как действовать, то единственный человек, который это, безусловно, должен знать в силу своего положения и обязанностей, — это начальник всего НКВД СССР, которым к тому времени (после убийства его предшественника Ягоды[5]) был Л. П. Берия.
И я решила, что должна послать телеграмму Лаврентию Павловичу Берия, начальнику НКВД, с просьбой о встрече.
У меня хватило ума и какого-то суеверного ощущения, чтобы держать свои планы в тайне. Мне казалось, что если я расскажу о них, они, скорей всего, не исполнятся. Я не сомневалась даже в том, что все мои друзья любым способом отговорили бы меня от них.
Сам факт, что я решила тайно пойти по этому пути, свидетельствовал о моей полной наивности в те годы и о том, что я совершенно не понимала, с какой страшной системой я имею дело.
Может быть, это и спасло моего папу, поскольку я определённо действовала нестандартными путями. Они были неожиданны для системы и в какой-то мере могли вызвать любопытство, подобное тому, которое возникает у жестоких людей в отношении беспомощных существ, входящих в клетку с дикими животными.
Я помню, как я пошла на главный телеграф на улице Горького (ныне Тверской) и подала телеграфистке телеграмму, в которой дословно было написано следующее: «Дорогой Лаврентий Павлович, я должна увидеть Вас по вопросу, который касается только Вас и меня, студентки Ленинградского Университета. Буду ждать Вашего решения о возможности и времени нашей встречи в приёмной возглавляемого Вами учреждения на Лубянке, в следующую пятницу с 10 до 12 утра».
Моя телеграмма вызвала переполох. Сперва сбежались телеграфистки, потом та телеграфистка, которой я вручила телеграмму, пошла к своему начальнику, и они долго совещались. Затем они куда-то исчезли. Но, в конце концов, телеграмму приняли.
В назначенный день, полагая, что мне придётся долго ждать, я положила в сумочку французский роман, который взяла с полочки книг в доме Капиц, и отправилась на Лубянку.
Уходя, я сказала только Анне Алексеевне Капице, куда я иду.
В приёмной было полно людей, растерянных, грустных, но охотно делящихся информацией о своих бесплодных попытках что-либо узнать об арестованных родственниках.