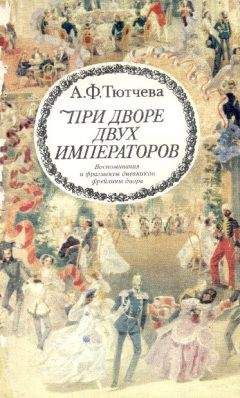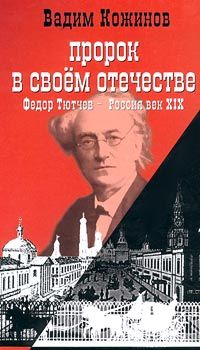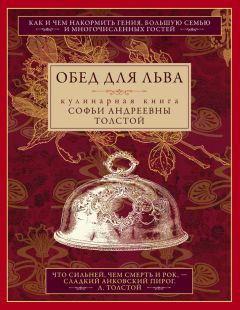Вадим Туманов - Всё потерять - и вновь начать с мечты…
Я сел в поезд Таллин — Ленинград, на следующий день добрался до Москвы и, не задерживаясь, купил билет на ближайший поезд до Владивостока. Он уходил в полночь. Почти всю ночь простоял у окна. Не хотелось ни читать, ни сидеть в вагоне-ресторане. Через несколько дней на перроне Хабаровска меня встретила мама. Я телеграфировал ей, когда прибывает поезд. Поеживаясь под наброшенным на плечи платком, она испуганными глазами смотрела на меня, спрашивая, что случилось. А что я мог ей сказать? Пытался успокоить, объяснял возвращение переводом на другое судно (и втайне на это надеялся), но материнское сердце не обманешь. Мы стояли молча, и только с последним ударом привокзального колокола, когда мне пора было вскакивать на подножку уже двинувшегося вагона, мама посмотрела на меня умоляюще:
Мне кажется, я больше тебя не увижу, сынок…
Ну что ты, мама, — успел я сказать.
Моя мама была из зажиточной семьи, осталась сиротой. Уезжать во время революции за границу не захотела, ее приютил дядя. Желая успокоить дядю, чтобы он не ждал неприятностей, вызванных ее происхождением, она убеждала его в своей полной лояльности к новой власти. Даже говорила, будто в 1919 — 1920 годах сама ходила под красным флагом. Так что пусть не беспокоится. Дядя неожиданно ответил: «Под красным флагом? Чтоб я об этом больше не слышал!»
А мой отец в годы Гражданской войны служил в коннице Буденного, был в дружеских отношениях с Олеко Дундичем, воевал с басмачами в Средней Азии. Его сослуживцы выросли до военачальников, а отца военная карьера не привлекала. Со временем он оставил службу и в 1930 году с семьей отправился строить молодые дальневосточные города. Они оба, мать и отец, похоронены в Хабаровске.
Транссибирский экспресс пришел во Владивосток солнечным днем. Встретившись с друзьями в ресторане «Золотой Рог», я узнал все новости, в том числе об одном из моих товарищей — Косте Семенове. Он тоже был снят с парохода, идущего в загранплавание, и направлен на судно, совершающее каботажные рейсы.
Утром я пошел в пароходство. У входа толпились сотни две матросов. Отдел кадров командного состава находился во дворе. Меня принял начальник отдела командных кадров Геннадий Осипович Голиков, хорошо относившийся ко мне.
Вадим, тебе нужно срочно уйти в рейс, хорошо куда-нибудь подальше, скажем в полярку, и задержаться там месяцев на восемь- десять, чтобы все забылось.
Да я готов, Геннадий Осипович, только скажите, хоть вы мне: что — «всё»?
Если б я сам понимал!
Голиков попросил зайти дня через два и, когда мы встретились снова, предложил пойти вторым помощником на пароход «Одесса», уходивший из Владивостока месяца на три к берегам Камчатки, в Гижигинскую губу. Я согласился. Дня за три до отхода ко мне в каюту вваливается старый приятель Юра Милашичев:
Вадим, ты что, уходишь в отпуск?
С чего ты взял?
Меня срочно направили сюда вторым, заменить тебя!
Заменяй, если направили.
Понимаешь, какая штука. Я пришел, как положено, представиться Василевскому, а он отправил меня обратно. У меня, говорит, уже есть второй.
Василевский — капитан «Одессы».
От меня ты чего хочешь? Чтобы я за тебя попросил?
Вадим, мы оба в глупом положении.
Хорошо, я зайду к капитану.
Капитан был в каюте не один; у него сидела жена, оба были в хорошем расположении духа. Извинившись, я коротко рассказал ему, что со мной произошло на «Уралмаше», и попросил прояснить наконец мое положение.
— Мне о вас рассказывал Петр Иванович Степанов. Я сам после рейса напишу вам характеристику. А сейчас идите и работайте. Послезавтра отход!
У Степанова, капитана парохода «Емельян Пугачев», я плавал четвертым помощником.
На следующий день, после полудня, меня вызвали к Василевскому.
— Не стану скрывать. Мне сообщили, что вас снимают с рейса не кадры, а водный отдел МГБ. Тут я ничем помочь не могу.
Я попрощался и уже у дверей услышал:
— Мне очень хотелось, чтобы вы со мной плавали, потому что Степанов о вас говорил много хорошего.
Я поблагодарил, зашел в свою каюту за чемоданом и сбежал по трапу.
…На улице Ленинской в киоске продавали мороженое на палочке, бутерброды с тонким ломтиком колбасы и водку в розлив. Почему сегодня такой жаркий день? Мне захотелось напиться, и ничто не могло этому помешать. Очередь была большая, много детей, но покупателей водки с почтением пропускали вперед, не заставляя томиться. Я взял два полных граненых стакана, осушил их, зажевал бутербродом, а когда потянулся за третьим, очередь, мне показалось, отшатнулась и я оказался с продавщицей один на один.
Может, хватит, морячок?
Н-н-наливай!
Выпив третий стакан, я направился к центральным воротам порта. Что со мной было дальше, не помню.
Проснулся на следующий день на пароходе «Зырянин» в каюте знакомого штурмана. Ребята сказали, что меня разыскивал капитан Степанов с «Емельяна Пугачева». Сейчас он в отделе командных кадров, и мне надо к нему поспешить.
В пароходстве я действительно нашел Степанова.
Я когда-то был, как уже сказано, четвертым помощником, очень старался поведением походить на него. В самые сложные моменты он оставался абсолютно невозмутимым, а внутреннее волнение выдавал только сильный одесский акцент: «Вивернемся ми или не вивернемся?» Как-то в проливе Цусима мы получили радиограмму, что терпит бедствие судно «Лев Толстой». Вышла из строя машина, судно несло на берег, надо было срочно взять его на буксир. Подать буксирный трос из-за сильного ветра не удавалось, и капитан решил подойти к терпящему бедствие судну как можно ближе, чтобы выброской подать трос. Но маневр не удался: судно несло на нас… Громадный «Лев Толстой» форштевнем ударил нам в правую скулу. Удар был настолько силен, что от планшира до ватерлинии образовалась трещина шириной до четырех метров. Судно «Емельян Пугачев» было загружено десятью тысячами тонн угля. Как четвертый помощник, я находился на мостике рядом с капитаном. Когда раздался удар и скрежет металла, я увидел спокойные глаза капитана и услышал: «На этот раз ми, кажется, не вивернулись…» И моментально последовали четкие команды: «Дифферент на корму! Крен на левый борт!» Я слушал команды, и мне была видна работа двух экипажей — наши заводили пластырь и крепили буксиры ко «Льву Толстому».
Мне это потом вспоминалось в 90-х годах XX века, когда, разваливаясь, тонула Россия и не слышно было четких команд: на мостике оказался капитан, который в этот момент размышлял только о том, какой флаг поднять.
И вот мы со Степановым стоим на ступенях пароходства.