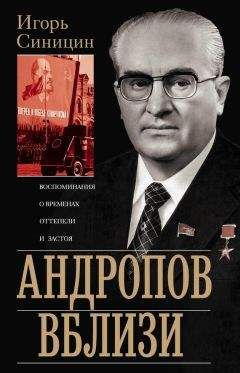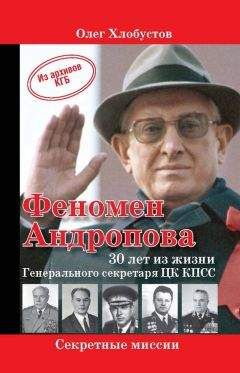Алла Гербер - Инна Чурикова. Судьба и тема
Все было бы неправдой, а совмещение в одном человеке фабричной девчонки из города Речинска и Орлеанской девы из далекой, к тому же средневековой Франции — уж совсем нонсенс, если бы Панфилов не открыл актрису, которая не стала нам доказывать, что несовместимое в отдельных случаях совмещается, а сумела наглядно показать, что это и есть наше «я», его непредсказуемые, индивидуальные проявления.
Его героини богаты той содержательной простотой, которая редкость не только в искусстве (на что с горечью сетовал Станиславский), но и в жизни. Они не простецкие, не упрощенные, а «простые», то есть сохранные, природные. Истинные!
Ему нужна была актриса, чтобы раскрыть эту простоту сложности и убедить нас в ее подлинности! Не только открывать правду, а тревожить, мучить нас правдой. Он приводит зрителя к самоосознанию в том мире, в котором он живет. Ибо в фильмах Панфилова тревоги этого мира, его временные приметы — боли и судороги, душепотрясения и вознесения — не в атмосфере вокруг героя, а в самом герое. Уберите из картины «В огне брода нет» поэтику ее изобразительных решений, оставьте Теткину наедине с теми, кто сопровождает ее на коротком пути к «всеобщему счастью», о котором она так мечтала, и время не уйдет из фильма. Оно неуловимым, неописуемым образом в глазах, жестах, в походке — в каждой мимической ниточке, протянутой между ней и пространством.
В каждой из героинь его фильмов есть Жанна д'Арк. Но они не Жанна. Они вышли из своего времени, взращены на своей земле. Мир большой (Родина, Век, Эпоха) и мир маленький (Паша, Теткина, буфетчица Анна, Елизавета Уварова) — все это он складывает в один мир.
Какая же ему нужна была актриса, чтобы стать этим миром?
Не послушница, а соучастница. Единомышленница. Заговорщица. Та, которая будет идти за ним, но и за собой. Его словом, но и своим. Его болью, которая не стала ее, а всегда была в ней.
«Бог за мир взимает дорого…» (М. Цветаева) — с этой готовностью платить, не растрачивая, не разменивая себя. Жертвовать, но не собой, не талантом своим, а всей жизнью — пришла в его кинематограф Инна Чурикова.
Пришла, чтобы остаться в нем насовсем.
Видение
В зале никого не было. Никого, кроме Тани Теткиной. Она смотрела с экрана своими заглатывающими мир глазами и повторяла, как заклинание, как молитву:
— Скорей бы. Скорей бы мировая революция.
— Послушай, — сказала я, наперед зная, о чем ее скоро спросит офицер на допросе. — Послушай, Теткина, ты и правда веришь, что придет такое время, когда люди перестанут мучить друг друга?
— Верю.
— Ты веришь во всеобщую гармонию?
— Во что?
— В благодать.
— Не понимаю, во что?.. — А потом убежденно, о своем: — Верю. Верю.
В тот день я не стала дожидаться трагического конца фильма «В огне брода нет» — не хотела, чтобы она погибла. И она осталась рядом со мной — в пустом просмотровом зале, где я снова, вот уже в который раз, смотрела фильмы Глеба Панфилова.
Потом пришла Паша Строганова. Паша из «Начала», проживающая в шестидесятые годы в городе Речинске (есть такой или похожий на него, но Паша там жила да и сейчас живет, наверно).
Она посмотрела на меня вызывающе-растерянно, независимо-любопытно:
— А вы кто?
— Я критик. Хочешь, я напишу о тебе книгу?
— Хочу, а что?.. Только я не артистка. И я не эффектная. И я замужем. А вы что, мной интересуетесь? — И пошла, не понимая, кому и зачем понадобилась.
Я крикнула туда, в глубину экрана:
— Паша, вернись!
Она улыбнулась, чуть не плача (как тогда, в фильме, в актерском отделе столичной киностудии, где ей сказали, что на нее нет больше «спроса»).
— Странно. Как все это странно.
Теперь их было двое… рядом со мной, в темном зале «Мосфильма».
Мэр города Елизавета Уварова вошла энергично, быстро, делово. Привычно закурила, ловко зажигая на лету спичку. Строго посмотрела сквозь толстые стекла очков.
— Вы ко мне?
— Я хочу написать о вас книгу.
— Писатель — тоже практический работник. Мы строим дома, вы пишете. Надо увлекать людей.
— Но нельзя обманывать.
— Разве мало в нашей жизни хорошего?
— Хотелось бы побольше.
— А вы покажите людям, как это должно быть, и люди вам за это спасибо скажут. И я первая.
— А вы не боитесь ответственности?
— Каждый человек обязан отвечать за свои поступки.
— Но ваши планы могут рухнуть?
— Уйду я — придут другие.
И. осталась — ждать своего слова. В фильме «Прошу слова» ее последний, зовущий взгляд был обращен к нам, зрителям, которых не было в тот день рядом со мной, но которые — знаю — еще придут.
Сашенька Николаева вбежала на экран стремительной, летящей походкой гида. Легкая, элегантная, притягательная — это для туристов. И тут же, через секунду, — глаза, затравленные тоской, во всем теле — озноб беды, на покатых плечах — ее пудовая тяжесть.
— Я хочу написать о вас книгу. Вы подарили мне тему. Это будет книга о красоте человека. О величии духа! О мужестве таланта!
Но она уходила. Уходила, не оборачивалась. Она не верила мне.
— За счастье надо бороться, — вздохнула Анна, Анна Васильевна, буфетчица из сибирского города Чулимска. — Зубами и ногами, — добавила она и тяжело опустилась на стул, тревожно вглядываясь в черноту зала.
Теперь их было пятеро.
Зажегся свет, и шумная ватага очередной съемочной группы устремилась к экрану. Незамеченная, я сидела в огромном зале, не в силах вырваться из того оцепенения, в которое ввергли меня эти странные женщины, эти смешные и грустные героини Инны Чуриковой. А там, на другом экране неведомой мне картины, суетилась камера, суетились люди.
Что-то там происходило серьезное, кажется, даже «жизненное». А на меня, с трудом прорываясь сквозь частокол незнакомых слов, смотрела, ничего не понимая, Таня Теткина и повторяла свое:
— Скорей бы. Скорей бы мировая революция!
И кричала от боли и страха Орлеанская дева:
— Крест! Дайте мне крест!
— Не уезжай. Я умоляю тебя!. — молила любимого Сашенька.
— Уезжай ты отсюда. Христа ради прошу, уезжай из Чулимска, — просила, выпрашивала, изгоняла Анна сына. — Завтра же, слышишь? Завтра.
— Прошу слова, — тихо сказала Елизавета Уварова. Вежливо расталкивая плотную толпу веселящейся массовки, не замечая устремленных на нее взглядов, не слыша требований тишины и приказа соблюдать правила поведения, она шла прямо к нам, и никто уже не мог ее остановить.
В тот вечер мы все вместе вышли из проходной «Мосфильма». Семенила в длинной, нескладной юбке Таня Теткина, поминутно зачесывая гребенкой сползающие на глаза волосы. Вызывающе стучала каблуками Паша, и в такт им раскачивалась белая, через плечо, клеенчатая сумочка. Уверенно, как на первомайской демонстрации, шагала Уварова, одергивая и без того влитой, точно сросшийся с ней жакет. Летела впереди гид-переводчик Сашенька Николаева, растерянно оглядываясь, не отстал ли кто. А замыкающая группу буфетчица Анна молча кивала ей: мол, иди, не останавливайся, никто не потерялся, все на своих местах.