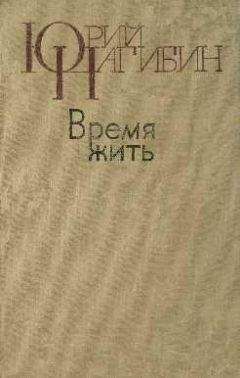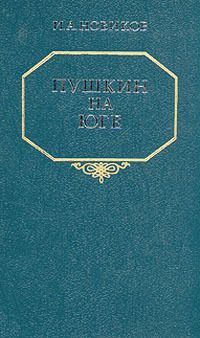Юрий Нагибин - Голгофа Мандельштама
Но даже в ряду отечественных поэтов-страдальцев, поэтов-жертв участь Мандельштама беспримерна. Прежде всего — по сознательности и твердости выбора, именно выбора, а не пассивного принятия. У него не было никаких иллюзий, когда он выбирал, — он встал и пошел…
Попробуем пунктирно проследить путь Мандельштама, смешно посягать на большее в кратком очерке, когда и тома новых исследований (зарубежных) не могут исчерпать этой темы. Даже в прекрасной работе Никиты Струве мне недостает анализа отдельных стихотворений. В тех немногих случаях, когда Струве приступает к такому пристальному разбору, он все-таки недостаточно подробен. И мне вспоминается статья Иосифа Бродского, посвященная анализу одного стихотворения Марины Цветаевой. Адресат стихотворения — Эрих Мария Рильке — ее далекая любовь. Все тут очень личное, зашифрованное и, как мне казалось, безнадежно непрочитываемое. Но вот его коснулся смелый, острый и точный скальпель равновеликого поэта, и стихотворение распахнулось, раскрылось во всю глубь, темные далекие ассоциации высветились, будто вынули драгоценность из запертого футляра, и вот она на твоей ладони сверкает, переливается, играет всеми гранями. И какое наслаждение перечитать отягощенные важным смыслом и теперь понятные строки!
Никита Струве не поэт, а талантливый и добросовестный исследователь и не допускает себя до столь беспощадной и, в прекрасном смысле, наглой проницательности. А может, это правильный расчет собственных сил: ученый не может посягать на то, что открывается интуиции и тайномыслию поэта. Вот если бы Бродский под добрую руку сделал для Мандельштама такую же работу, как для Цветаевой!
Но обязательно ли расшифровывать Мандельштама, а если нет, то можно ли наслаждаться не прочитанными до конца стихами? Помните у Лермонтова:
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно —
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Лермонтов первый в русской поэзии обнаружил, что со словом не все так просто, не всегда оно очевидно, не всегда совпадает с сутью. Вот комический пример тайнозначия слов из «Пиквикского клуба». Мистера Пиквика судят за мнимое нарушение брачного обязательства. Адвокат истицы, вдовы Бардль, хитрый крючкотвор Бацфус, опирается на фразу мистера Пиквика, сказанную им вдове: он попросил грелку в постель. Бацфус уверяет, что Пиквик имел в виду не прибор для согревания простынь, а саму вдову. Любовники сплошь да рядом называют друг друга чем угодно, только не по именам: рыбкой, ласточкой, втулочкой, почему же не назвать грелкой аппетитную вдовушку? Если отвлечься от данного конкретного случая, то это верно: любовная игра порой такие слова изобретает, какие не снились ни одному заумщику, но ведь любовники отлично понимают друг друга. Значит, слово свободно от изначального смысла, и если поэт принял это в свою кровь, он может говорить на птичьем языке любви, который будет волновать, даже оставаясь непонятным.
Поэтическое движение Мандельштама шло по линии раскрепощения слова, полнейшей свободы ассоциаций, преодоления временных и пространственных рамок. Вот, кажется, последнее стихотворение, написанное в Воронеже, возможно, и вообще последнее:
Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
В конце короткого стихотворения — картина ухода из Киева красноармейцев в пору Гражданской войны. Завершается все криком «сырой шинели»: «Мы вернемся еще, розумийте!»
Вроде бы все ясно как день, названы время и место, четко обозначены персонажи. Но есть тайна — второй, пророческий смысл. Вот так будет метаться уроженка Киева, вдова поэта Надежда Мандельштам, гонимая за мужа-преступника, по всей стране, не находя нигде твердого пристанища. И так же сухо будет лицо сильной любовью и ненавистью женщины, подчинившей себя одной цели: спасти, сохранить стихи погибшего. Мандельштам это предвидел — он предвидел и куда более скрытое — и соединил горе «жинки» с горем оставляемого неприятелю города, где «пахнут смертью господские Липки» и где он однажды пережил разлуку с той, что стала его женой.
Вершина мандельштамовской поэзии — «Стихи о неизвестном солдате» входят в душу взрывами страшных откровений сквозь мучительный туман тайнописи, но последней строфой озаряется весь мрачный громозд апокалипсической картины мира, созданной поэтом. Это перекличка убиенных:
— Я рожден в девяносто четвертом…
— Я рожден в девяносто втором…
В тризну по всем погубленным: в войнах, революциях и мирном душегубстве голодом и статьями — поэт включает себя:
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.
Он как будто бы знал, что дата его смерти останется неизвестной, как и место погребения, если погребение вообще было, и хочет врезать потомкам в память день своего появления на свет, хотя бы одним краем прикрепиться к времени.
После этого затянувшегося отступления вернемся к нашему намерению проследить поэтический путь Мандельштама. Выше приводились строки из его символического стихотворения «Silentium». Не менее знаменито вот это:
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади…
Ни одному барду одряхлевшего символизма и не снились такие стихи. Уже в том же году «пустая клетка» заполнилась, да еще как! Н. Гумилев повел отсчет акмеистического Мандельштама от этих вот коротких стихов:
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, — и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
И он ответил любопытным: вечность!
Вот так досталось отвлеченному Батюшкову от строгого и трезвого Мандельштама, человека точных координат. Боже, как прекрасна эта гениальная игра!
Он сам исчерпывающе и сжато сказал о сути акмеизма: «Прочь от символизма, да здравствует живая роза!» Новую русскую поэзию Мандельштам вел от Иннокентия Анненского, обладавшего внутренним эллинизмом, адекватным духу русского языка. А что такое «эллинизм» по Мандельштаму? «Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая одежда, возлагаемая на плечи любым. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу».