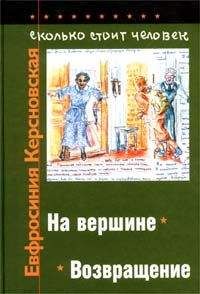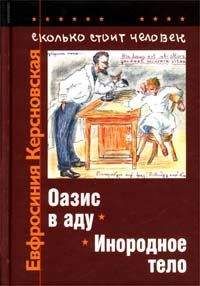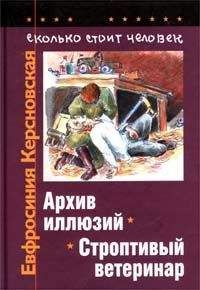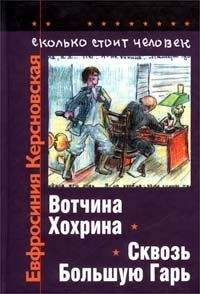Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь одиннадцатая: На вершине
С горами у меня знакомство было, пожалуй, шапочное. Я хорошо знала тайгу — мертвую, страшную, с ее болотами, трясинами и гнусом; знала я степи — бескрайние, пустые, жуткие; знала, хоть и не очень, и тундру — самое безнадежное место на свете, если не считать безводных пустынь. Но горы? Будучи в Горной Шории, я гор избегала, а когда дошла до алтайских гор во время побега из ссылки в 1942 году, то уже до того выдохлась, что спасовала после нескольких неудачных попыток.
Теперь я решила познакомиться с Кавказом и поехала в Железноводск. Начну с того, что я Развалку не нашла. И, чтобы разрешить эту топографическую загадку, взобралась на Железную.
Все горы-батолиты видны с ее вершины как на ладони. Впереди, прямо на юг, чуть не полгоризонта занимала Бештау (что означает «пять гор»: из них отсюда видны только четыре). Справа к ней примыкало несколько маленьких гор, вернее, очень крутых батолитиков, очень живописных (впоследствии их безжалостно уничтожили: взорвали для строительных материалов). Вдали слева — Машук, у подножия которой расположен Пятигорск. А вот и Развалка — на северо-северо-восток. Не мудрено, что я ее не увидела, ведь ее заслонял лес. Ладно! Теперь от меня не уйдешь!
Надо засечь направление, спуститься в овраг, и там начнется подъем к Развалке. А покажется она, только когда подойдешь вплотную к ее подножию. Было уже за полдень, когда я добралась до ее подошвы. Разумнее было бы вернуться, отложив подъем на завтра. Но откладывать?! Это никогда не входило в мою программу. И я начала подъем.
Мне повезло: я сразу определила путь, по которому можно взобраться на гору. Даже более опытный альпинист не сориентировался бы лучше. Я начала подъем по оползню.
Камни шевелились, качались. Покатость была велика, и если оползень не пополз, то это объяснялось формой обломков и отсутствием щебня: камни плоские, и порода эта — бештаунит — почти такая же твердая, как диабаз. Но иногда, чаще всего весной, оползень приходит в движение и как бы нехотя, шурша, движется. По склону Развалки, в ее лесистой части, лежат крупные обломки высотой от двух до четырех метров, которые в свое время скатились с горы. Такие «камушки», разумеется, никакими препятствиями не остановишь. Иное дело — мелкие осколки. Они, натыкаясь на дерево, останавливаются, порой вклиниваясь в него. На них наползают следующие, и постепенно дерево оказывается в «плену».
Я не могла не обратить внимания на эти деревья. Как велика в них воля к жизни! Как мужественно они сопротивляются каменным захватчикам! Я то и дело останавливалась, вытаскивала из рюкзака альбом и зарисовывала эти измученные борьбой, но не сдающиеся деревья-герои.
Так появилась серия набросков, неумелых, но старательных.
О том, что вскоре придется вернуться в шахту, просто невозможно было думать, когда кругом — дикая красота неприступного склона этой в высшей степени любопытной горы; когда воздух будто настоян на ароматах, не имеющих ничего общего с шахтными газами или ароматами норильской промплощадки, источающей все отвратительнейшие смрады производств сернокислотного, плавильного, коксохима и tutti guanti[2]. Впервые за столько лет я была вполне счастлива. До того счастлива, что даже не подумала о том, что время близится к вечеру, а я не прошла и половины пути до вершины по очень ненадежным, шевелящимся подо мной камням, что и справа и слева крутые обрывы, расщелины и можно угодить под камнепад!
На каждом шагу я хваталась за свой альбом
Вот липа, заваленная обломками скал. Скалы пытались ее стереть с лица земли, а она охватывает их своей древесиной. Одиннадцать длинных, гибких ветвей тянутся, будто щупальца спрута, стараясь вырваться на простор.
Вот дуб. Метр в поперечнике и не больше метра в высоту. Он, как Самсон, засыпанный обломками рухнувшего дворца. Его могучие руки-ветви искривлены самым фантастическим образом. Они почти сухи и обросли толстыми подушками мха, но на них то тут, то там пробиваются молодые побеги, украшенные султанами крупных, красиво изрезанных листьев.
Вот граб. Сколько испытаний выпало на его долю, но он жив! И на уцелевших побегах отсвечивают изумрудом на солнце его зубчатые листы.
Этот ясень не выдержал неравной битвы! Он погиб. Сухие сучья его, как подагрические руки, подняты вверх, к небу. Что это, последняя мольба о помощи или проклятие? А камни все сильнее сжимают свои безжалостные объятия… И тут же, из расщелины камней, вырастает ядовитый борец. И плющ неплохо себя чувствует у подножия погибшего дерева. И мох находит для себя питание.
Многообразна жизнь, и безжалостна борьба за существование!
Останавливаясь на каждом шагу, любуясь причудливыми зубцами и делая зарисовки, я и не заметила, как подкрался вечер. Скалы стали розовыми, а тени — голубыми. Как всегда, на закате громче стали все звуки: грохот поезда, свист электровоза — все, что так не вязалось с красотой первозданной, не тронутой человеком природы.
На вершине
Я увлеклась, стараясь как можно точнее перенести в свой альбом контур юго-западного склона — причудливое кружево камней, над которыми кружились орланы. Нагретый за день камень излучал тепло, но из расщелин уже поползла прохлада. Надо было решать: спускаться вниз, чтобы завтра с утра возобновить подъем, или заночевать здесь, на полпути, а утром преодолеть оставшуюся часть подъема? Разумеется, я решила заночевать здесь, выбрав плоский камень, защищенный с трех сторон от ветра. Одеяла со мной не было, но не беда! Вытряхнув из рюкзака свитер и юбку, я подстелила под себя рюкзак, сделала из камней изголовье. Поужинала (у меня осталось немного кефира и хлеба). Затем надела свитер, укутала ноги юбкой и погрузилась в воспоминания.
Все те же звезды светили мне, что и в походах моей юности — с Ирой в Карпатах; то же небо расстилалось надо мной, что и в Сибири, когда я ночевала в алтайских перелесках. Но о Сибири не хотелось думать, и я мысленно перенеслась через Кавказские горы и Черное море — в родные края… Родные? Да может ли край быть родным, когда у меня там никого не осталось? Как никого? Там осталась моя молодость — часть моей души. С этим мыслями я уснула.
Не скажу, что спать на Развалке было очень уютно. Развалка — своего рода феномен. Тут на 43-й параллели, в недрах горы — вечная мерзлота (объясняется это наличием углекислоты). Из всех щелей тянет холодом. Недаром там растут «представители северной флоры»: рябина, можжевельник. Я изрядно продрогла и с первым проблеском рассвета собрала свои пожитки и ускоренными темпами начала восхождение. Тут уж пришлось как следует помогать себе руками: карабкаться, цепляясь за выступы скал, выжиматься на руках, ползти.