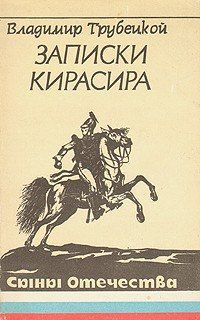Юрий Мейер - Записки белого кирасира
Возможно, что все эти подробности покажутся скучными нашим молодым читателям второго и третьего поколения после нас. Но прежде, чем описывать самих помещиков, я прилагаю старания, чтобы описать ту обстановку, в которой протекала их жизнь.
Переломными годами в поведении помещиков нужно считать годы первой революции 1905–1907. Основным чувством помещиков стал страх и стремление, невзирая на всю любовь к насиженным гнездам, покинуть их. Но помимо неуверенности в будущем, было еще одно явление, которое вело к уходу помещиков из своих имений. Это измельчание помещичьих владений. Дело в том, что, например, поколение моего отца было весьма многочисленное. Очевидно, деды были уверены в своем будущем и обзаводились большими семьями. У моего деда Мейера было шестеро детей, у деда Гончарова, отца моей матери, — девятеро. И по соседству у помещиков к концу прошлого века всюду было много детей. Теперь, если как пример взять мою семью, складывалась такая перспектива на будущее. Как я уже сказал, у деда Кубань с хутором Ивановкой составляла 1200 десятин. После его смерти каждому из шестерых детей досталось бы по 200 десятин. Дальнейшее хозяйство могло бы вестись только сообща. Но так как эти шесть отпрысков, по всей вероятности, обзавелись бы своими семьями, то им не было бы места для жизни в прародительском доме. Поэтому среди помещиков в поколении моего отца наблюдался, если можно так выразиться, уход на отхожие промыслы, и связь с родной землей терялась, тем более потому, что одновременно с уходом являлось желание продать свой удел. Именно это произошло с моей семьей. Три моих тетки после революции 1905 года продали хутор Ивановку, то есть свои доли, в общем 600 десятин. Их примеру последовал и средний брат Леонид. От всего имения осталось 400 десятин, принадлежавших моему отцу и его младшему брату Жорику. Но с таким сокращением площади менялась вся рентабельность владения таким участком земли. И это вынудило и этих двух последних владельцев уйти в город и искать источник существования на службе.
Между прочим, характерная вещь. В конце прошлого столетия то, что у американцев называется планированием семьи, стало проводиться неукоснительно в помещичьих семьях и стало вполне возможным, несмотря на то, что в те времена никаких мер против зачатия и никаких пилюль не существовало. Если в поколении отца было шестеро братьев и сестер, то в следующем поколении детей было только четверо, и в каждой семье только по одному ребенку. То же самое было в семье Олив: при пяти членах в старшем поколении у них в следующем поколении было только три отпрыска. Мое поколение, ставшее жертвой революционного катаклизма и эмиграции, напуганное неуверенностью в будущем, пошло еще дальше, и вообще большинство браков осталось бездетными. Редко кто решался обзавестись одним ребенком. Только в нынешнее время наши дети опять увереннее смотрят на будущее и стали производить на свет по несколько детей.
Возвращаясь к поколению моего отца, надо заметить, что в помещичьем быту повторялось в уменьшенном масштабе то, что привело к концу удельный период, когда для новых поколений удельных князей не хватало вотчин. Система майората, или немецкого «Эрбхоф», при которой имение переходило к старшему в роде и не могло быть поделено, в коренной России не применялась. Она действовала в прибалтийских губерниях, занесенная туда из Германии.
Следуя таким образом общему велению судьбы, и в Кубани всего через три года после смерти прародителя Александра Николаевича Мейера четыре наследника продали свои доли, и из 1200 десятин осталось всего 400 при несоразмерно большой усадьбе. Правда, нужно сказать, что три сестры моего отца, замужняя Мария и незамужние Наталия и Валерия, сохранили до конца жизни горячую любовь к родному гнезду. Наталия оставалась все время управляющей имением, и Валерия жила с ней в Кубани. Теперь я сам под конец своей жизни понял и горько ощущаю нашу общую вину, грустную судьбу моих теток.
Возьмем младшую Валерию. Все Мейеры были очень высокого роста и не особенно красивы. Валерия окончила институт в Орле, знала хорошо французский язык, имела приданое за проданную землю около 80 000 рублей, но, зарывшись в глуши деревни, так и не нашла себе жениха. Единственно, что она себе позволила, это поездку два раза в Монте-Карло, куда она ездила вместе с замужней сестрой Марусей и своим зятем, орловским присяжным поверенным Леоном Иосифовичем Кржевским, поляком, католиком. Все остальное время она безвыездно жила в Кубани. Представьте себе, примерно 10 месяцев в году жизнь вдвоем с сестрой в доме, окруженном зимой наметами снега, плохо освещенном керосиновыми лампами, без общения с другими людьми для молодой девушки! В 1909 году она стала болеть. У нее оказался абсцесс в кишечнике. Что мог в таком случае сделать земский врач, ее лечивший? Каковы должны были быть мысли у этой девушки, умиравшей в глуши! Наконец, очевидно, когда у нее начался перитонит, сестра Таля спохватилась и приняла крайние меры — везти Валеру в Москву. Был конец марта, и дороги были непроезжими ни для саней, ни для коляски. Крестьяне Кубани несли Валеру на носилках, сменяясь, 26 верст до спального вагона на станции Змиевке. На следующий день по приезде в Москву она скончалась.
Судьба тети Тали была не менее трагична. Она была болезненная, худая, всегда подтянутая. Много читала, выписывала ряд журналов и, конечно, «Русское Слово». Каждый вечер слушала доклад приказчика и намечала программу работ на следующий день. Но, конечно, в зимние месяцы и этого занятия не было. Как все помещицы, она лечила крестьян. Набор лекарств был ограниченным: хина, касторка, капли Иноземцева, йод. Отношения у нее с деревенскими были хорошие. Наш уезд в 1917 и 18 годах был спокойным. Усадеб не жгли и помещиков не убивали. Правда, большинство из них покинули усадьбы в начале 1918 года. Когда в наш дом в Кубани вселился комитет бедноты, тете Тале оставили ее комнату. Там она и прожила до 1921 года, потеряв всякую связь с родными. Мои родители и я были уже за границей, Кржевские пытались бежать на юг, но вернулись в Москву и притаились. Так всеми забытая тетя Таля умерла в 21 году от рака.
Хочется сказать несколько слов и о дяде Леониде. Он был ростом в сажень, охотник и любитель лошадей. Очень нравился женщинам и любил в клубе играть в «шмэн де фер»[5]. Его любовь к лошадям, когда он жил в Орле, дошла до того, что он из спальни своей первой жены переселился в конюшню и спал за перегородкой рядом со стойлом серого орловца-рысака и кровного англичанина под седло. Революция застала его в Самаре, он был тогда юрисконсультом Удельного округа и слыл либералом. Поэтому после февраля служащие избрали его председателем своего комитета. Но дальше этого его либерализм не пошел. Он умер в 1932 году в Самаре, но ни разу не пошел на службу к большевикам. Он развелся со своей второй женой и до конца жизни (ему было 56 лет) был частником. На своей любимой кобыле он зимой возил в город по заказу дрова. Для этого он сам пилил на берегу реки Самарки деревянные части севших на мель и брошенных барж. На общем фоне великих семейных трагедий с расстрелами, Соловками и Гулагом судьбы моей семьи могут показаться счастливыми, но я считаю своим долгом показать, как складывалась и более удачная жизнь так называемых бывших людей при большевизме.