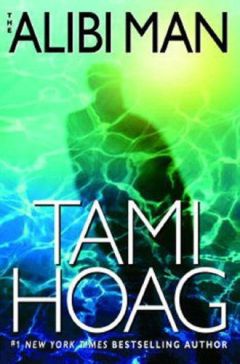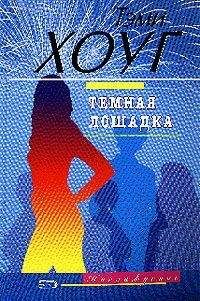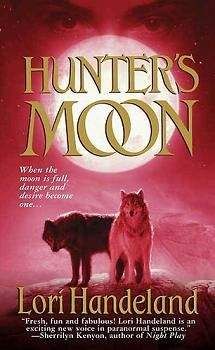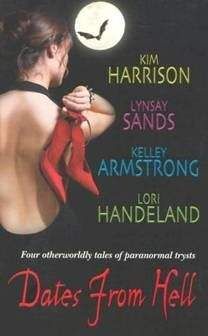Лидия Чуковская - Памяти Фриды
— Но что же мне было делать? — устало спрашивала Фрида. — Им это не по нутру. Как раз то, что дорого нам с вами.
— Что делать? — переспрашивала я. — Немедленно брать статью обратно. Уносить домой и класть в ящик. Вот что делать! Ведь это вредительство: найти слово — все равно где, в собственном воображении, в памяти или в чужой речи, — найти точное слово и допустить, чтобы на ваших глазах сделали его приблизительным!
— Но человек-то важнее слова, — говорила мне Фрида. — Ведь статью-то я написала в защиту учительницы. Ну, унесла бы я статью домой — ну и выгнали бы учительницу с волчьим паспортом… Чтобы выручить человека из беды, стоит поступиться словечком.
Логика несокрушимая, и я соглашалась. Я соглашалась, но как-то всего лишь умом, а не сердцем. Новая Фридина статья, новое умерщвление жизни хотя бы в одной строке — и опять между нами тот же спор.
Фрида очень любила Цветаеву. Вымаливала, а иногда прямо-таки требовала у счастливых владельцев стихи и прозу Цветаевой, и переписывала, и хранила, и знала наизусть… Однажды я отдала перепечатать на машинке и подарила ей «Искусство при свете совести» — статью, которую, на мой взгляд, необходимо пережить каждому, кто работает в литературе. Фридочка долго не выпускала ее из рук, читала без конца себе и другим, восхищалась, сама переписала ее на машинке и раздарила экземпляры друзьям; но однажды сказала мне:
— Выводы из этой статьи для меня неприемлемы. И это вполне естественно: ведь Цветаева — поэт, и притом великий поэт, а я всего лишь учительница, журналистка. Там, в конце, помните? — она пишет, что перед судом человеческой совести врач, учитель, священник — выше поэта. Выше, потому что нужнее. И что перед этим судом — судом совести — она грешна. И только перед одним судилищем она может оказаться правой: если существует Верховный Суд слова. Помните?
Я помнила очень хорошо, но Фрида достала статью из ящика и прочитала последнюю главку вслух.
«Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы… За исключением дармоедов во всех их разновидностях — все важнее нас.
И зная это, в полном разуме и твердой памяти расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердой утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная большее, творю меньшее, посему мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном Суде совести и спросится. Но если есть Страшный Суд слова — на нем я чиста».
— А я не знаю, что меньше, что больше и что важнее, — говорила мне Фрида. — Но для себя я выбираю ту должность, которую Цветаева называет человеческой: врач, учитель. Пусть я окажусь грешницей перед Страшным Судом слова. Лишь бы не согрешить перед человеком и собственной совестью.
Я пыталась объяснить ей, что противоречие это мнимое, вымышленное, что где-то долг учителя, врача и долг поэта совпадают, что искусство равновелико строительству жизни. Но объяснения мои были лишены вразумительности, потому что я и сама до конца не понимаю свою мысль. Не только другим, но и себе самой я не в силах ее объяснить. И всегда, пытаясь додумать ее до конца, я, как на стену, натыкаюсь на твердую формулу Блока: «Искусство с жизнью помирить нельзя».
Спор этот — и даже не спор, не разномыслие, а скорее некоторое разночувствие, вызываемое разницей в нашем воспитании (я выросла среди людей, главной, а может быть, и единственной ценностью жизни считавших искусство, и с детства приняла эту мысль, не задумываясь, как аксиому), спор этот длился между нами почти что до самого Фридиного смертного часа.
(С некоторых пор, подсказанный ей мужанием ее таланта, ее писательской зрелостью, спор этот возник и длился внутри ее собственной души, вступая в противоречие с ее отзывчивостью, с ее добротой и приблизив, по моему глубокому убеждению, ее преждевременный смертный час…)
Как это ни странно, угадывался он где-то под спудом и в наших постоянных разговорах о «деле Бродского» — деле, которому было отдано Фридой столько сил и в котором ее друзья, и я в том числе, принимали в течение полутора лет ежедневное участие. Борьба за Бродского заставляла нас всех жить будто на качелях: вверх-вниз, снова вверх и снова вниз. Мы постоянно находились между надеждой и отчаянием: то нам объявляли, что Бродский будет свободен в ближайшие дни (и мы имели наивность верить и даже сообщать об этом Бродскому), то в городе становились известны слова, произнесенные главой правительства: «Бродский наказан слишком мягко, ему следовало бы дать не 5 лет ссылки, а 10 лет тюрьмы». Для Фриды эти воздушные ямы были особенно тяжелы: она всегда начинала любить тех, за кого боролась, а Бродского, без его просьбы и ведома, попросту усыновила, раз и навсегда приняла к себе в сердце, и я даже знаю миг, когда это усыновление совершилось: на первом суде. Сообщая мне — 22 февраля 1964 года, из Малеевки — о своем обращении к Генеральному прокурору СССР, Фрида писала:
«Что-то теперь будет?
Но что бы там ни было, что бы ни было, а я никогда не забуду, как он стоял в этом деревянном загоне под стражей. И может быть, все будет хорошо, и он выйдет на дорогу и станет большим поэтом, а я все равно не забуду, как он смотрел — беспомощно, с изумлением, с насмешкой, с вызовом — все разом.
А скорее всего никем он не успеет стать, его сломают. Поэту нужны нервы толстые, как канаты. Несокрушимое здоровье. А он болен. Ему не совладать с тем, что на него кинулось.
Зачем я пишу вам все это? Мне бы сказать вам что-нибудь хорошее[3], а я опять за свое».
Да, она опять за свое, опять и опять за свое. Боль, испытываемая Бродским, сделалась для Фриды живою, собственной болью, ни днем, ни ночью не покидавшей ее. Бессознательно и постоянно она требовала от каждого из нас — не словами и не слезами, а чем-то более властным, как может требовать поющая в оркестре скрипка — чтобы и мы, не отвлекаясь и не уставая, испытывали сосредоточенную и неутолимую боль. Оттуда же, из Малеевки, она писала мне, что поехала она туда напрасно, что ей и лыжи не в лыжи, и работа не в работу, и тишина и лес ни к чему, что всюду перед ней этот деревянный загон, этот беспомощный и сильный человек, эта стража… Сейчас я говорю не о сути дела, а о тех мелочах, в которых проявлялось личное отношение Фриды к Иосифу, мне они кажутся более существенными для понимания ее душевного облика, чем даже та звонкая, смелая борьба за него, которую она с таким упорством вела.
Она собирала его стихи, переводы, вчитывалась, вдумывалась в них, раздобыла где-то его портрет. Расспрашивая о нем друзей, она радовалась благородным чертам в характере своего подзащитного. Кто-то рассказал ей, что Бродского незадолго до ареста вызвали в райком комсомола и пытались «воспитывать». «Кто ваши любимые поэты?» — спросила у него дама-секретарь. «Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак», — ответил Иосиф. «А ведь ему легко было ответить: Маяковский, Твардовский, — говорила мне Фрида. — И не придерешься. И дело с концом… А он ответил правду. Почему эти воспитатели не ценят такую редкую черту: правдивость?» Когда совершился второй суд, когда чудовищно несправедливый приговор был приведен в исполнение и Бродский по этапу выслан в Коношу, — все мы, желая утешить и ободрить его, отправляли туда телеграммы. Фрида, отправив свою, спросила меня, что думаю телеграфировать я. «Пришлите список книг… — сказала я неуверенно. — Ведь ему зимовать там…» — «Ну, что вы! — огорчилась Фрида. — Получив такую телеграмму, он подумает, что вы с его изгнанием примирились. Что ему теперь остается только книги читать, а нам — только посылать ему книги». Я обещала придумать другую телеграмму. И когда я прочитала Фриде новый текст, что-то вроде «никогда не перестану опровергать клевету», Фридочка так прыгала вокруг меня, так радовалась и так дивилась этому нехитрому тексту, словно я у нее на глазах создала новый сонет Шекспира. «Мне бы так никогда не придумать, — наивно повторяла она, — какая вы умница, как я вас люблю. Интересно бы знать, сколько часов идет туда телеграмма? Получил он уже вашу или нет?» Узнав, что у Бродского нет пишущей машинки, она с нарочным послала в Коношу свою, уверив меня, будто у нее есть другая. И только после Фридиной кончины Галя рассказала мне, что никакой другой машинки у Фриды не было, эта была единственная, и подарили ее ей девочки, Галя и Саша, ко дню рождения на свой первый заработок…